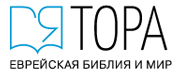Мидраш как метод, жанр и стратегия
Мидраш это метод изучения Торы. Тот «мидраш», который мы читаем это как бы след, оставляемый применением этого метода мудрецами. Не он сам. А свидетельство о нем. Причем свидетельство историческое. Сами мы уже не можем воспользоваться мидрашем как методом. Это будет что угодно: комментарий похожий на мидраш, нео-мидраш, стилизация. Мы не можем произвольно применять его правила или производить новые сущности. Но мы можем пользоваться уже произведенными.
Зачем применяется этот метод?
По сути мидраш является 1) средством производства текстуальности (как качества) и 2) средством производства идентичности.
Мидраш производит текстуальность – можно сказать, превращает Тору в текст в котором нет сюжета, нет фабулы, нет персонажей и, по большому счету, нет связи с реальностью – есть лишь элементы текста, которые должны быть поняты из самих себя. Первый момент здесь – связывание:«Текст» это то, что лежит между произведениями, так что и мидраш связывает книги Танаха, соотнося сказанное в одном месте со сказанным в другом (понять слово «берешит» можно посмотрев, где сказано «решит»). Мы не можем понять текст, соотнося его с обыденным опытом языка. Указать на ошибку, неправильность. Исправить с точки зрения существующего вне текста правила. Текст сам – и правило, и закон, а наше дело понять (т.е. прочитать) его.
Но что значит «прочитать»?
Мидраш – это прочтение в перспективе (перспективе истории еврейского народа, находящегося в «изгнании»). О чем спорят Каин и Авель? – В чьем пределе будет построен храм. О чем говорят слова «и мрак…»? – О четырёх «изгнаниях». О чем говорит слово «и придет»? – О приходе Машиаха. Во всем объеме чтений мы можем выделить ряд повторяющихся мотивов или модусов, воспроизводимых с опорой на текст и составляющих устойчивую оболочку – «чтение», при котором текст Торы предстает свидетельством о еврейском народе. По сути, мы можем говорить о раввинистической керигме (скрыто, неартикулируемо) противостоящей христианской, гностической и условно-эллинистической (эпикойрес).
Субъект этого антиисторического чтения находится в вечности. В эоне. Это вечность настоящего момента, в которой существует народ Израиля до наступления «олам га-ба». Но это так же вечность онтологического характера: Тора существовала всегда. До сотворения мира. И всегда в том самом виде, в котором мы ее знаем. Праотцы учили Тору так же, как Иосиф, Иосиф – так же, как мы. Устная Тора – Мишна, Талмуд – уже изучалась в «шатрах Шема и Эвера». Цари древнего Израиля так же ожидали прихода Машиаха (хотя они сами были помазанниками).
В этой вечности уравниваются люди (занимающиеся Торой мудрецы разных поколений, присутствующие в тексте мидраша единомоментно) и надчеловеческие сущности («сказала Тора», «сказала Шхина», «сказала Бат-Коль», «сказал ангел смерти»). Т.е. это пространство серединного мира – мира между землей и небесами (существующего, вероятно, лишь в сейчас – до момента, когда солнце сожжет всё, и мир снова станет не разделенным), и в это пространство человек может войти через занятие Торой. Т.е. в буквальном смысле стать одним из. Вступить в диалог.
Само это пространство (помимо внеисторичности) волшебно. Наполнено чудесами. В нем существуют не только разного рода бытовые чудеса, сотворяемые мудрецами (вода, появляющаяся в колодце, затыкаемая пяткой нора онагра), но и волшебные животные типа левиафана или железного комара, волшебные предметы (одежды из кожи, передаваемые от Адама до Нимрода), невероятные существа (великаны типа Ога) и т.д.
Иногда это антиисторичное чтение сталкивается с историей. Но опять же в смысле нахождения в тексте. «Почему они учили меньше чем мы, и для них были чудеса, а мы учим больше, и для нас нет чудес?», но здесь, по сути, мы видим столкновение мидраша и майсы – истории из жизни. Майса может быть вставлена в мидраш, но она сама по себе не ориентирована по отношению к Тексту. И ее ориентация – это как бы мидраш второго уровня. Где сама жизнь является ответом на какой-то задаваемый по отношению к Тексту вопрос (Хони га-Меагель хотел узнать, что значит строчка «были как во сне» – и узнал).
Майса может приводиться в качестве примера, иллюстрирующего мидраш («главой академии в Мата Мехасья станет тот, чья подпись Тивьюми»). Но гораздо более интересны случаи двойного комментирования, возникающие, когда майса не просто внедряется в мидраш, но и комментируется им изнутри (описание того, как Бен-Зома, думающий, что его созерцание маасе-берешит открывает ему значение текста, сидел «тогэ бе-вагулот» в качестве комментария на слова «тогу ва-вогу»). Человек думает, что он комментирует текст, но сам является комментарием. Здесь характерно возникающее отношение к жизни как к театру, или, точнее, наглядному пособию, существующему в рамках академии: учитель повернулся к ученикам и сказал: «Бен-Зома [отошёл] в мире». Т.е. сцена с Бен-Зомой оборачивается примером, который рассматривает мудрец со своими учениками.
Здесь возникает амбивалентность зримого – а также то, что можно назвать уровнем артикуляции. С одной стороны, мы понимаем, что сама по себе еврейская культура, в отличие от греческой, не построена на зрении. Мы видим это четко, когда сравниваем, например, разработку похожих сюжетных мотивов («Жертвоприношение Исаака» и «Ифигения в Авлиде» ). Мидраш может пытаться заполнить лакуны, возникающие в тексте Торы (Авраам, ведя Исаака к месту жертвоприношения, вступает в разговор с Сатаном). Но важно здесь именно то, что речь в действительности о перенаправлении; перед нами все равно не возникает картины, подобной «Ифигении», т.е., отдельного теоретического рассмотрения определённой проблемы. Напротив, происходящее в итоге возвращает нас к неким общим темам, обсуждаемым постоянно и по самым разным поводам (так, разговор Авраама с Сатаном на пути к жертвеннику мог иметь место и в любой другой момент между любыми другими персонажами).
Нет здесь и основного греческого мотива судьбы, рока, завершённой предзаданности. Он есть косвенно – есть пророчества – но его нет в основной перспективе (той, из которой возникает трагедия). Т.е. проблемы знания своей судьбы, попытки её избежать и, в итоге, всё равно неизбежности (Эдип). Герои Торы учат Тору. Но учат Тору не как произведение (в котором есть сюжет с героями, и в котором, в этом случае, можно было бы узнать самих себя и свою судьбу). Они учат законы (т.е. то, что излагает Мишна, Талмуд). Иосиф не говорит братьям «мы же читали текст, там сказано, что вы кинете меня в яму». Он говорит братьям о законах, которые из этого текста выводятся.
Мидраш, Аггада и текстуальная стратегия чтения
Мы можем рассматривать мидраш как особый жанр. Но с точки зрения литературоведческой сам мидраш (как явление, или как тип комментария) может содержать в себе массу разнообразных жанров. Чаще всего речь идет о достаточно больших по объему фрагментах, в которых возникают разного рода вкрапления – пословицы, рассказы, притчи, примеры из жизни мудрецов. Т.е. речь идет именно о повествовательных фрагментах, или комментариях с нарративным потенциалом (который может быть реализован в каком-то другом месте, в более позднем тексте). Такого рода вкрапления обычно объединяются под названием Аггада (букв. «повествование, рассказ»). И именно с Аггадой обычно связано представление о мидраше в обыденном сознании.
Это верно и не неверно одновременно. С одной стороны, мидраш как метод комментирования может (но не обязан) содержать в себе аггаду. С другой – именно аггада образует некий внешний круг чтения, напрямую не связанный с письменным текстом Торы, но искусственно связываемый с ним посредством отсылок к мидрашу как методу. Любая аггада по факту может быть связана с текстом той или иной мидрашистской операцией. И при этом функционировать автономно, в качестве самостоятельной и самодостаточной единицы, не помнящей в себе о каком-то конкретном связывании с конкретным элементом Текста.
Проблема, возникающая здесь, – исторического характера. Мы понимаем, что основной корпус аггады Вавилонского Талмуда (или сборников Мидраш Рабба) формируется около 2 века н. э., что аггада с самого начала функционирует внутри устной традиции, и что сплетение аггады с мидрашем возникает примерно тогда же. Но мы не понимаем статуса конкретных фрагментов. Мы не можем проверить, существовал ли тот или иной рассказ, интерпретирующий текст Торы, в устной народной культуре до того, как оказался привязан к мидрашу как методу – или же он является производным от работы метода как такового. Например, мы знаем аггаду, что вместе с Авелем и Каином были рождены сестры-близнецы. И понимаем, ответом на какой вопрос является этот рассказ (т.е. на вопрос простого человека о том, откуда у них взялись жены). Мидраш связывает этот рассказ с правилом Нахума Иш-гам-зо про дополнительный смысл служебных слов «эт» и «гам» («эты и гамы увеличивают») . Но при этом мы не понимаем, возникает ли этот рассказа как ответ на вопрос в результате анализа текста, или предшествующее анализу предание привязывается к тексту через правило, открываемое в результате анализа. Очевидно лишь, что в какой-то момент любое народное предание оказывается апроприировано мидрашем и тем самым как бы узаконено. Но оказавшись узаконенной, та или иная единица аггады начинает одновременно функционировать как самостоятельная, не привязанная к конкретному фрагменту текста или конкретному правилу (появляется «мидраш о том, как…», а не«мидраш на слова…»). В связи с чем для некоторых единиц возникает удивительная ситуация дальнейшего расширения через вторичную привязку или перепривязку.
Особо характерно это для поздних мидрашей. Например, мидраш о том что Тора предшествовала сотворению мира и Бог, когда творил мир, смотрел в нее (данный в сборнике Берешит Рабба как дополнительное объяснение игры слов «амон – уман»),обрастает в мидраше Танхума подробностями о том, что она не просто существовала до сотворения мира, но была написана«белым огнем по черному огню» (что, в свою очередь, привязывается к описанию кудрей возлюбленного в тексте Песни Песней). Таким образом, та или иная аггада в разных формах оказывается привязана к разным фрагментам текста и начинает читаться как бы поверх отдельного прочтения того или иного места Торы.
Если опуститься на технический уровень, то мы можем говорить о ряде устойчивых методов (или скорее приемов) работы с текстом, реализация которых оказывается связана с той или иной аггадой. Это связывание (двух или больше) фрагментов текста между собой; заполнение лакун; отождествление (персонажей, предметов, обстоятельств); разворачивание того или иного фрагмента текста в отдельную сцену и т.д. Я уже неоднократно говорил об этих приёмах применительно к пьесам и живой постановочной практике театра. И могу снова кратко повторить основные тезисы. Возникающая здесь параллель мидраша и практики театра ХХ века кажется мне важной и показательной именно в том смысле, в котором мы можем говорить о стоящей за мидрашем стратегии. Стратегии условно «текстуальной» в противовес условно же «сюжетной». Усилия, направленные на пьесу в текстуальной стратегии чтения, превращают ее в текст, предоставляя возможность обнаружить в ней дальше любые сюжеты и любых персонажей, при этом целиком оставаясь в рамках именно исследования исходного текста.
Игорь Вдовенко
Первоначально опубликовано в блоге автора.