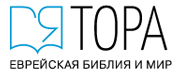Карл и Янкель
В 2018 году издательсство “Неолит” выпустило книгу израильского исследователя Зеева Бар-Селы “Сюжет Бабеля”, представляющую собой своего рода мидраш на творчество знаменитого писателя.
Предлагаем читателям отрывок из этой книги.
Из поздних рассказов Бабеля «Карл-Янкель» привлекает наибольшее внимание исследователей. В силу чего удалось опознать и интерпретировать почти все составляющие его элементы.
Содержание рассказа таково:
У кандидата в члены партии Овсея Белоцерковского родился сын. Отец в это время находился в Балтском районе, организуя уборку жмыхов. Оттуда он направил жене поздравительную телеграмму, в которой наказал назвать сына Карлом, в честь Карла Маркса. Домой он вернулся через две недели и узнал, что в его отсутствие набожная теща произвела над младенцем обряд обрезания. Мало того, вместо революционного имени Карл, дала ребенку имя Янкель.
Посоветовавшись с секретарем партячейки, Овсей подал на тещу, Брану Брутман, в суд. Прокурор решил сделать суд показательным и провести его на фабрике имени Петровского. Кроме тещи на скамье подсудимых оказался и малый оператор Нафтула Герчик. Допрошенная в качестве свидетеля мать ребенка Полина, путается в показаниях, на лбу ее выступает кровавый пот, и в это время из соседней комнаты доносится плач ребенка. Объявляется перерыв на кормление. Но оказывается, что ребенка уже кормят — грудь ему дала какая-то киргизка.
Судебное заседание возобновляется, а рассказчик, глядя на сосущего младенца, тихо шепчет: «Не может быть, чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливей меня…».
Михаил Вайскопф квалифицировал рассказ как «вымученный гибрид марксизма с хасидизмом», но, тем не менее, подвергает его тщательному анализу.
Кровавый пот на лбу Полины Белоцерковской он сопоставляет с Евангелием от Луки (22:44): «И был пот Его, как капли крови, падающие на землю».
А поскольку об адвокате со стороны обвинения, бывшем присяжном поверенном Самуиле Лининге, сказано, что «[е]сли бы синедрион существовал в наши дни, — Лининг был бы его главой», то и само судилище уподоблено суду над Иисусом.
Киргизка тоже упомянута не случайно: это указание на рассказ Всеволода Иванова «Дитё», в котором сибирские партизаны, заставив киргизку кормить русского младенца, замечают, что ее ребенок прибавляет в весе быстрее русского, и киргизенка убивают. Эпизод этот для Бабеля имел особое значение: мать его собственного сына, Эммануила, Татьяна Каширина, вышла замуж за Всеволода Иванова. Иванов ребенка усыновил и перекрестил в Михаила. А в 1929 году чета Ивановых произвела на свет своего сына, Вячеслава… Таким образом, у сына Бабеля появился конкурент.
Дедом Карла-Янкеля был кузнец Иойна Брутман. Иойна — это идишское произношение имени библейского пророка Ионы, а в иврите слово уоnа означает «голубь». В Новом Завете голубь символизирует Святой Дух.
Имя отца указало ремесло его сыновьям:
«В мою пору у него росли три сына. Лучше их голубятни в городе не было. Сыновья кузнеца выходили на Александровский рынок с сотней пар голубей. Перед самой войной они начали водить почтовых голубей. Это была фабрика птицы; они занимали места столько же, сколько и сама кузница. Нельзя было и мечтать о том, чтобы перешибить Иойниных сыновей».
Что же касается кровавого пота на лбу Полины, то в рассказе он, видимо, появился не из Евангелия, а опосредовано. И таким посредником была повесть Николая Лескова «Владычный суд», точнее эпизод, повествующий о забранном в рекруты сыне еврея. Виновником этого оказался некий еврей-выкрест, вместо своего подмастерья обманом вставивший в список подлежащих призыву другого человека. И вот теперь несчастный отец призванного тщетно обивает пороги, моля об отмене безжалостного решения. И выглядят его потуги:
до крайности образно, живо, интересно и в одно и то же время и невыразимо трогательно и уморительно смешно, и даже трудно сказать – более смешно или более трогательно.
<…> благодаря бога, ни у меня, сидевшего за столом, пред которым жалостно выл, метался и рвал на себе свои лохмотья и волосы этот интролигатор<…>, ни у глядевших на него в растворенные двери чиновников не было охоты над ним смеяться.
Все мы, при всем нашем несчастном навыке к подобного рода горестям и мукам, казалось, были поражены страшным ужасом этого неистового страдания, вызвавшего у этого бедняка даже кровавый пот.
Да, эта вонючая сукровичная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных им мне бумаги которою смердели все эти «документы», была не что иное, как кровавый пот, который я в этот единственный раз в моей жизни видел своими глазами на человеке. По мере того как этот <…> худой, изнеможенный жид размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими к нему мокрыми волосами, его скорченные, как бы судорожно теребившие свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсардака грудь, – все это было точно покрыто тонкими ссадинами, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими росистыми каплями красная влага… Это видеть ужасно!
Кто никогда не видал этого кровавого пота, а таких, я думаю, очень много, так как есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, – тем я могу сказать, что я его сам видел и что это невыразимо страшно.
По крайней мере это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах, и мне кажется, будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце, страдающее самою тяжкою мукою – мукою отца, стремящегося спасти своего ребенка… О, еще раз скажу: это ужасно! <…> Я невольно вспомнил кровавый пот того, чья праведная кровь оброком праотцов низведена на чад отверженного рода, и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах.
Все мысли, все чувства мои точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый, исторический символ. <…>
Эта история, в которой мелкое и мошенническое так перемешивалось с драматизмом родительской любви и вопросами религии; эта суровая казенная обстановка огромной полутемной комнаты, каждый кирпич которой, наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах; эти две свечи, горевшие, как горели там, в том гнусном суде, где они заменяли свидетелей; этот ветхозаветный семитический тип искаженного муками лица, как бы напоминавший все племя мучителей праведника, и этот зов, этот вопль “Иешу! Иешу Ганоцри, отдай мне его, парха!” – все это потрясло меня до глубины души… я, кажется, мог бы сказать даже – до своего рода отрешения от действительности и потери сознания… <…> Отчаянный отец с вырывающимся наружу окровавленным сердцем, человек – из племени, принявшего на себя кровь того, которого он зовет “Иешу”… Кто его разберет, какой дух в нем качествует, заставляя его звать и жаловаться “Ганоцри”?
Мои наэлектризованные нервы так работали, что мне стало казаться, будто в этой казенной камере делается что-то совсем не казенное. Уже не услыхал ли Он этот вопль сына своих врагов, не увидал ли Он его растерзанное сердце и… не идет ли Он взять на свое святое рамо эту несчастную овцу, может быть невзначай проблеявшую его имя».
Отметим еще один немаловажный момент: действие эпизода происходит в Белой Церкви, по словам Лескова, «самого безалаберного после Бердичева жидовского притона». А отец Карла-Янкеля носит фамилию Белоцерковский!
Именно о страданиях отца и повествует рассказ «Карл-Янкель».
Только отец этот не Овсей Белоцерковский, а Исаак Бабель.
Янкель — уменьшительная форма имени Яков. А отцом библейского Иакова был Исаак. И в семействе Исаака тоже происходила драма — решался вопрос о первородстве. Свое право на первородство Исав уступил Иакову за миску чечевичной похлебки. И сын Бабеля тоже потерял право на первородство: будучи усыновлен другим отцом, он был оттеснен новорожденным сыном самого Всеволода Иванова, стал киргизенком, чья жизнь и смерть зависит от судьбы сводного брата, весьма, кстати, болезненного мальчика. Но и этого мало: сына Бабеля лишили имени — из Эммануэля сделали Михаилом, и, судя по всему, крестили, что для еврея равносильно смерти.
Так свершилось сыноубийство, а Бабеля заставили пережить собственный сюжет.
И еще несколько слов об именах.
Согласно метрическому свидетельству, «тысяча восемьсот девяносто четвертого года, Июля 4 дня у из Сквирских мещан Маня Ицковича Бобеля и жены его Фейги родился 30 июня, а обрезан 7 июля сын, нареченный именем “ИСААК”».
Это свидетельство было предъявлено в коммерческое училище и в 1911 году при поступлении в киевский Коммерческий институт. Но, в это же самое время, отец будущего писателя фамилию уже сменил — из Бобеля стал Бабелем. А заодно поменял имя и отчество: местечковое Мань Ицкович — на солидное Эммануил Исаакович.
И его сын Исаак с этим выбором согласился: в 1913 году, под первым напечатанным его рассказом, мы читаем: «И. Бабель».
Относительно происхождения фамилии Бобель мнения расходятся. Кто-то возводил ее и к польскому babel «пузырь»… Нежелательная эта ассоциация и стала, дескать, причиной переименования. Но семейство Бобелей проживало не в Царстве Польском, а в Одессе…Так что куда надежнее искать корни фамилии в языке идиш — «бабочка». Слово это, в зависимости от диалекта, произносится двояко: bobel и babel. Причиной же смены фамилии, действительно, могла оказаться нежелательная ассоциация: приятно ли коммерсанту слышать все время, что можно проторговаться и остаться на бобах?!
A b 1917 году Исаак, как подобает журналисту, обзавелся и псевдонимом: Бабъ-Эль. Твердый знак при слове «Баб» означал, что псевдоним этот не сокращение двойной фамилии, типа Бабицкий-Эльяшевич, а сочетание двух слов: Баб и Эль. Второе слово переводится с иврита без труда: Эль «Бог». А первому в иврите соответствий нет… Многие особых трудностей здесь не видят: Бабель — это Babel «Вавилон»! Но на иврите слово хоть и содержит две буквы «бет», но читается иначе: Bavel.
А сами вавилоняне называли свою столицу Bab-illi «Врата бога». Об этом узнали во второй половине XIX века, когда при раскопках месопотамских городов были найдены десятки тысяч глиняных табличек и расшифрована вначале клинопись, а затем и язык, который клинопись скрывала. Вавилонский оказался семитским языком, оттого вавилонское illi действительно соответствует ивритскому Эль «Бог». А слово bab «ворота» сохранил другой семитский язык — арабский.
И своим псевдонимом «Бабъ-Эль» хотел оповестить всех что Мессия, литературный мессия уже при дверях.
Теперь сюжет выстроился так: Бог и Мессия, открывающий врата Богу… Бог и Сын.
Kнигу израильского исследователя Зеева Бар-Селы “Сюжет Бабеля” можно приобрести в интернет-магазинах Лабиринт, Озон и Амазон.