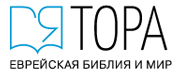ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
Мне позвонила женщина и сказала:
– Я уверена, что вы меня не помните, но я знаю вас уже лет двадцать по вашим произведениям, и мы даже однажды встречались. Меня зовут Перл Лейпцигер.
– Хорошо вас помню, – ответил я. – Я читал ваши стихи, а встретились мы у Бориса Лемкина на Парк-авеню.
– Значит вы меня помните. Я звоню вот почему. Несколько еврейских писательниц и поклонники литературы на идиш решили вместе встретить Новый год. Придет Борис Лемкин – это фактически его идея. Будут несколько дам и, кроме вас, еще двое мужчин: Борис Лемкин и Гарри, его тень. Я понимаю, вы – известный писатель, а мы – просто горстка начинающих. Но мы любим литературу, и мы – ваши преданные читатели. Честное слово, вы окажетесь в кругу ваших искренних поклонников.
– Для меня ваше приглашение – большая честь. Назовите мне адрес, и когда мне следует приехать?
– А для нас это огромная радость. В конце концов, Новый год – это ведь и наш праздник. Приезжайте, когда хотите – чем раньше, тем лучше. Подождите, у меня идея: почему бы вам не прийти на обед? Борис будет с нами, а Гарри и другие подойдут позднее. Я знаю, вы сейчас скажете, что вы вегетарианец. Положитесь на меня: я вам сварю такой суп, как варила ваша мама.
– Откуда вы знаете, какой суп варила моя мама?
– Из ваших рассказов, конечно.
Она дала мне свой адрес в Восточном Бронксе с подробнейшими инструкциями, как туда добраться на подземке, и опять многократно благодарила меня. Я знал, что Перл уже за пятьдесят, но голос ее звучал молодо и твердо.
В предновогодний день выпал густой снег. Улицы побелели, и небо к вечеру стало фиолетовым. Нью-Йорк напоминал мне Варшаву: не хватало только запряженных саней. Ступая по снегу, я воображал, что слышу звон их бубенцов. Я купил бутылку шампанского и изловчился поймать такси до Бронкса, что в новогодний вечер оказалось немалым подвигом. Было еще рано, но дети уже дудели в рожки в преддверии торжественной минуты. Такси катило по еврейскому кварталу: то тут, то там я видел елки в огоньках и блестящей мишуре. Некоторые магазины уже закрылись, а в других запоздалые покупатели разбирали снедь и выпивку. Всю дорогу я упрекал себя, что избегаю общества писателей и не хожу на их собрания и вечеринки. Беда в том, что не успевал я встретить кого-то из них, как на меня вываливали кучу сплетен, что, дескать, кто-то что-то не так обо мне сказал, а другой написал обо мне что-то еще. Левые были недовольны, что я не поддерживаю их дело мировой революции, а сионисты – что не изображаю достаточно драматично борьбу, которую ведет еврейское государство, и героизм его пионеров.
Борис Лемкин был богатый бизнесмен, ворочавший недвижимостью и опекавший с умеренной щедростью еврейских писателей и художников. Авторы посылали ему свои книги, а он им – чеки. Покупал Борис и картины. Жил он на Парк-авеню со своим старым приятелем из Румынии, и звал его “мой диктатор”. На самом же деле, Гарри, или Гершель, был его дворецким и поваром, а Борис Лемкин – известным гурманом и женолюбом. Много лет назад он расстался со своей женой. Говорили, что он собрал громадную коллекцию порнографических снимков и фильмов.
В четверть седьмого мое такси остановилось перед домом, в котором жила Перл, и я поднялся на лифте на четвертый этаж. Она ждала меня у открытой двери своей квартиры: низенькая, пышногрудая, широкобедрая, с круглым лбом, крючковатым носом и большими черными глазами, в которых сияла польско-еврейская радость жизни, не омраченная никакими бедами. На ней было вечернее платье в блестках и золотые лайковые башмачки. Недавно покрашенные волосы возвышались черным стогом, а ногти сияли малиновым лаком. На шее у нее висела золотая звезда Давида, в ушах болтались длинные серьги, а на пальцах поблескивали бриллианты: всё, несомненно, подарки Бориса Лемкина. Она, кажется, уже выпила, потому что, едва узнав меня, тут же расцеловала. Не успев переступить порог, я ощутил запах супа моей мамы: овсянка, чечевица, сушеные грибы и жареный лук. Гостиная была заставлена всякой всячиной. По стенам висели картины, как я догадался, протеже Бориса Лемкина.
– А где Борис? – спросил я.
– Как всегда опаздывает, – ответила Перл, – но позвонил, что скоро будет. Давайте пока выпьем. Что вы предпочитаете? У меня есть почти всё, что вы сможете назвать. Я испекла анисовые пирожные, которые вам нравятся – только не спрашивайте, откуда я это знаю.
Когда мы вкушали шерри с анисовыми пирожными, Перл сказала:
– У вас есть много врагов и много друзей, а я – ваш истинный защитник. Я не позволю никому возводить на вас напраслину в моем присутствии. Чего они только ни говорят! Что вы сноб, циник, мизантроп, отшельник. Но, я Перл Лейпцигер, защищаю вас как львица. Один бесстыжий тип намекал здесь, будто я ваша любовница. А я им всем отвечаю, что не успею раскрыть их книгу, как начинаю зевать, но если…
Зазвонил телефон, и Перл схватила трубку:
– Да он здесь. Пришел минута в минуту и принес шампанское как настоящий кавалер. Борис? Нет пока. Наверно, проводит время с какой-то из своих пустоголовых болтушек. Мои литературные акции, наверно, упали, но я напоминаю себе, что перед Богом мы все равны. Для Него и муха не меньше Шекспира. Не опаздывай. Что? Нет, ничего не надо. Я накупила столько тортов, что хватит до Пасхи.
Было уже без двадцати семь, но Борис всё не появлялся. За один час мы так сблизились с Перл, что она поведала мне все свои секреты.
– Я из набожной семьи, – говорила она, – и если бы кто-то сказал мне, что я выйду замуж не по закону Моисея и Израиля, я бы сочла это неумной шуткой. Но Америка всё в нас разрушила. Моему отцу пришлось работать по субботам, а для него и для мамы это был страшный удар. Это фактически его и убило. Я стала ходить на собрания левых, где проповедовали атеизм и свободную любовь. На одном из них я и встретилась с Борисом. Он поклялся мне, что в ту же минуту, когда получит развод от своей крикливой, как станет со мной под свадебным шатром. Я всё это принимала за чистую монету: такой врун, что столько лет не могла его раскусить. Даже сегодня не хочет сознаться что он с другими шляется, а мне от этого просто тошно. Зачем мужчине в семьдесят лет столько приключений? Он как те римляне, которые срыгивали один обед, чтобы наполнить желудок следующим. И мозги у него набекрень. Вы никогда не узнаете, какие у него вывихи, но если дело идет к деньгам – тут он всех обскачет. За четыре недели до краха биржи в 1929 году он продал все свои акции, и у него оказалось полмиллиона наличными. Тогда на эти деньги можно было купить пол-Америки. Сейчас он сам не знает, сколько у него денег, но всё равно каждый грош отдает мне как милостыню. Когда садится играть, может спустить тысячи, и вдруг зажмет десять центов. Слышите, кто-то пришел – это он, наконец.
Перл подскочила к двери, и скоро я услышал голос Бориса: он не говорил, а ревел. Кажется, он уже успел выпить. Он стоял коротенький, круглый, как бочка, седой, багровый, с белыми пушистыми бровями над блестящими глазками. Был он в смокинге, розовой рубашке в складках и лаковых штиблетах. Из толстых губ торчала сигара. Он протянул мне руку с кольцами на трех пальцах и пробасил:
– Шалом алейхем! Я прочел каждое ваше слово. Только, пожалуйста, не соблазняйте мою Перл: она для меня – всё. Чем бы я был без нее? Полным ничтожеством. Перл, дорогая, дай мне что-то выпить, у меня в горле пересохло.
– Потом успеешь. Сейчас мы будем ужинать.
– Опять есть? Кто это придумал? Только не на Новый год.
– Нравится тебе или нет, а есть ты будешь.
– Если она требует, чтобы я ел, я буду есть. Видите, какой у меня живот? Туда влезет целый гастроном, мясная лавка в еще место останется. Я завещал свой труп докторам: пусть кромсают после смерти – большой клад для медицины.
Он направился на кухню, и хотя говорил, что не голоден, мигом выхлебал, чавкая и сопя, две полные тарелки супа. Перл сказала: “Как был свиньей, так и остался”.
– Моя мама была умница, – сказал Борис, – и говорила мне правильно: “Кушай всё, сынок, пока можешь. В могиле не накормят”. У нас в Бесарабии готовили карнацлех, и один американец умел их делать. Ничего другого этот евнух не умел. Можно было ему сунуть под нос пять долларов и убедить, что это все сто, но что касается блюд, то шеф Вальдорфской Астории сам держал бы свечку, пока он работает. Если Гарри советует мне купить какие-то акции, я не жду ни секунды. Сразу звоню брокеру и велю ему покупать. А когда Гарри говорит продать – я продаю. Он абсолютно ничего не смыслит в акциях, называет “Дженерал моторс” “Дженерал мутерс”, и как вы это объясните?
– Объяснений нет ни для чего, – ответил я.
– Вот это прямо мои слова! Бог есть, это несомненно, но последние четыре тысячи лет он молчит и даже рабби Стефену Мудрому слова не сказал, поэтому мы Ему ничего не должны. А жить мы должны, как записано в Агаде: “Ешь, пей и веселись!”.
К девяти стали съезжаться писательницы. Одну из них, Миру Ройшкец, лет восьмидесяти, я помнил еще по Варшаве. Вся в морщинках, но глаза были живые и ясные, как у девушки. Мира напечатала книгу: “Человек – это Бог”. Она принесла Перл сладенький пирог, который сама испекла.
Матильда Файнгевирц, невысокая, широкая, с большой грудью и лицом польской крестьянки, сочиняла любовные вирши. Ее взнос состоял в бутылке сиропа, которую надлежало вылить на ханукальные сласти. Берта Козацки с растрепанными морковными волосами писала какие-то несусветные романы на идиш. Ее героинями были селянки, соблазненные городскими распутниками, а потом становившиеся проститутками и кончавшие с собой. Еще до ее прихода Перл клялась мне, что та еще девственница. Берта принесла ромовую бабу, и Борис Лемкин, едва увидев, тут же отхватил себе и съел половину, громогласно возвещая, что лишь святые в раю вкушают такие яства.
Самой миниатюрной из пришедших была товарищ Цловех, букашечка, которая, как говорили, сыграла огромную роль в революции 1905 года. Ее мужа, Файвеля Блехера, повесили за покушение на комиссара варшавской полиции. Цловех и сама неплохо умела делать бомбы. Ее подарок Перл состоял в паре шерстяных носков, какие полвека назад носили гимназистки в Варшаве.
Последним пришел Гарри с громадной бутылью шампанского, которую Борис поручил ему купить для вечера. Высокий, худощавый, с длинным веснушчатым лицом и рыжеватыми волосами без единой проседи, Гарри выглядел как ирландец. На нем были котелок, галстук-бабочка и летнее пальто. Едва вошел Гарри, Борис закричал:
– Где утка?
– Я не смог достать.
– Что, во всем Нью-Йорке ни одной утки не осталось? – гремел Борис. – Пришла утиная эпидемия? Или всех уток депортировали обратно в Европу?
– Борис, я не смог найти ни одной утки.
– Ладно, обойдемся без утки. Когда я проснулся утром, мне страшно захотелось жареную утку. За каждую утку сегодня вечером в Нью-Йорке я бы брал по миллиону долларов.
– Зачем вам столько денег? – спросил я.
– Я бы скупил всех уток во всей Америке.
Хотя Перл жила на боковой улице, но время от времени даже сюда долетали звуки праздничных рожков. Матильда включила радио, и диктор сообщил, что на Таймс-сквер встречать Новый год собралось сто тысяч. Сообщил он и об ожидаемом числе транспортных аварий во время праздников. Борис Лемкин уже расцеловал Перл и других дам. Он наливал себе рюмку за рюмкой, его лицо багровело, а волосы казались еще белее. Он хохотал, хлопал в ладоши и старался вытащить бомбистку товарищ Цловех на танец с собой. Он подхватил Перл в воздух, и она потом жаловалась, что порвал ее подвязки.
Гарри всё это время сидел на диване спокойно и трезво с серьезностью лакея, который должен присматривать за хозяином. Я спросил, как давно он знаком с Борисом, и он ответил:
– Мы еще в хедер вместе ходили.
– Он выглядит лет на двадцать старше вас.
– В нашей семье не седеют.
Зазвонил телефон, и Перл подошла ответить. Заговорила по-варшавски напевно: “Кто? Что? Ну, вы меня, наверно, дразните? В самом деле? Нет, я не пророк”. Вдруг голос напрягся: “Да, слушаю”, – сказала она полушепотом. Борис ушел в ванную. Дамы обменялись любопытными взглядами. Перл не произносила ни слова, но на ее лице удивление сменилось гневом и отвращением, хотя глаза иногда смеялись. До того, как заняться писательством, Перл одно время играла в идишном театре. Наконец, она опять заговорила. “Кто он – шестимесячный ребенок, которого украли цыгане? Мужчина в семьдесят лет должен знать, чего он хочет. Я его соблазнила? Простите, но когда он начал вас обхаживать, я еще в люльке лежала”,
Борис вернулся в гостиную.
– Почему такая тишина? Вы произносите безмолвную молитву?
Перл прикрыла трубку ладонью:
– Борис, это тебя.
– Меня? Кто это вдруг?
– Твоя прабабушка встала из могилы. Иди в спальню, там есть спаренный телефон.
Борис вопросительно взглянул на Гарри и неуверенно прошел в спальню. У двери он бросил на Перл взгляд, будто спрашивая: “Ты собираешься слушать?” Перл сидела на углу дивана, прижав трубку к уху. Мы слышали приглушенный крик. Гарри сдвинул рыжие брови. Одни писательницы покачали головами, а другие зашикали.
Я вышел посмотреть на картины, развешанные в сводчатом фойе: евреи молятся у Стены Плача, пляска хасидов, школьники за талмудом, невеста вступает в свадебный шатер. Я снял книгу с полки и прочел эпизод в одном из романов Берты Козацкой о мужчине, который пришел в бордель и встретил в там свою бывшую невесту. Когда я поставил книгу на место, Борис уже вернулся из спальни.
– Мне не нужны шпионы, и я никому ничего не должен! – орал он. – Пошли вы все к черту, паразиты, бездельники, пиявки!
– Пузырь лопнул, – торжествующе произнесла Перл Лейпцигер.
Она пыталась зажечь сигарету, но зажигалка испортилась.
– Какой пузырь? Что лопнуло? Мне не нужна здесь компания старых перечниц, которые вытянули из меня все соки, и им еще мало. Я никогда не обещал быть верным никому из вас и всей прочей дряни. Вот вам!
– Правда колется?
– Правда в том, что ты такая писательница, как я турок! – ревел Борис. – Каждый раз, когда ты что-то нацарапаешь, мне нужно хорошенько подмазать издателя, чтобы он стал это печатать. И это всех вас касается! – показал Борис на других дам. – Я пытался читать ваши стишки. Разлюбил-позабыл! Сердце-шмерце! Восьмилетний школьник сложит лучше. Кому нужна ваша пачкотня! Только селедку в нее заворачивать!
– Пусть Бог опозорит тебя, как ты позоришь меня! – закричала Перл.
– Бога нет. Пошли, Гарри!
Гарри не двинулся.
– Борис, ты перепил. Пойди в ванную и вымой лицо. Может быть, у вас есть сельтерская, – спросил он у Перл.
– Так я перепил? Все мне правду в глаза тычут, а когда я говорю правду, называют меня пьяницей. Не надо мне мыть лицо и не надо сельтерской. Я велел тебе принести утку, но тебе лень было поискать. Ты, как все они. Ты shnorrer, ты сачок и прилипала! – орал Борис. – Если я не получу жареную утку сегодня вечером, выгоню тебя к чертовой матери! Завтра утром выброшу на улицу твои шмотки, и чтобы духа твоего в моем доме больше не было! Ясно?
– Куда яснее.
– Так ты мне принесешь сегодня вечером утку или нет?
– Сегодня вечером нет.
– Сегодня вечером или никогда. Я ухожу, а ты можешь оставаться.
Борис направился к фойе. Вдруг он увидел меня и ошарашено отпрянул.
– Это я, конечно, не о вас. Куда вы пропали? Я думал, вы уже ушли.
– Я рассматривал картины.
– Какие это картины? Копии, мазня. Эти хасиды пляшут уже сто лет. Так называемые художники разводят грязь на холсте и хотят, чтобы я за это им платил. Перл себе отложила в укромном гнездышке золотое яичко из моих денег. Вот отчего она такая гордая и смелая. Всего два года прошло, как я больше не работаю по шестнадцать часов в день – теперь я работаю только по десять. Этот недоучка Гарри думает, что я без него не обойдусь. Он мне нужен, как дырка в голове. Подписаться даже не умеет. И гражданином Америки он никогда не станет. Водит машину с моими правами, а я должен сидеть спереди, потому что он дорожных знаков не выучил. Всё, бросаю эту кодлу и еду в Европу или в Палестину. Где мое пальто?
Он ринулся к дверям, но Перл стала ему поперек пути, раскинув руки с малиновыми ногтями и закричала:
– Борис, ты не можешь вести машину в таком состоянии! Ты сам убьешься и еще десятерых потянешь за собой. По радио сказали…
– Я убью себя, а не тебя. Где мое пальто?
– Гарри, не позволяй ему уйти? Гарри! – визжала Перл.
Гарри медленно подошел.
– Борис, ты делаешь из себя дурака.
– Заткнись! Можешь перед ними строить из себя джентльмена, но я знаю откуда ты вылупился. Твой папа был подручным у фурмана, а мамочка… И сам ты удрал в Америку, потому что украл лошадь. Это правда или нет?
– Правда или нет, но я работал на тебя сорок лет. Мог бы нажить целое состояние, а не получил ни гроша. Как сказал Иаков Лавану: “Не взял я ни быка, ни осла твоего”.
– Это Моисей сказал евреям, а не Иаков Лавану.
– Пускай Моисей. Если хочешь убиться, открой окно и прыгай вниз, как те облапошенные во время краха, только зачем гробить Кадиллак?
– Идиот, это мой Кадиллак, а не твой, – Борис закатился таким диким хохотом, что дамы разбежались. Его согнуло вдвое будто грузом этого смеха. Одной рукой Гарри схватил Бориса за плечо, а другой влепил ему подзатыльник. Мира Ройшкец бросилась на кухню и принесла стакан воды. Борис выпрямился.
– Чего ты притащила мне воду? Водка мне нужна, а не вода.
Он схватил Гарри в объятия и расцеловал:
– Не оставляй меня, дружище. Ты же мой брат и наследник. Я тебе оставлю всё мое состояние. Все другие мои враги – жена, дети, бабы. Что мне нужно от жизни? Немножко дружбы и кусок утки.
Лицо Бориса исказилось, и на глазах навернулись слезы. Она закашлялся, засопел и разразился такими же дикими рыданиями, как хохотом минуту назад.
– Гарри, спаси меня!
– Пьяный, как Лот, – покривилась Перл Лейпцигер.
– Иди, полежи. – Гарри взял Бориса под руку и отвел в спальню.
Борис упал на кровать Перл, захрапел и мгновенно заснул. Лицо Перл, в начале вечера казавшееся молодым и оживленным, покрылось морщинами и увяло. В глазах застыла странная смесь грусти и гнева.
– Что ты будешь делать с такими деньгами, Гарри? – спросила она. – Станешь таким же дураком, каким был он?
Гарри усмехнулся:
– Не беспокойтесь, он нас всех переживет.
Все четыре писательницы жили на Восточном Бронксе, и Гарри повез их домой. Я сидел рядом с ним спереди. Намело столько, что Гарри едва пробрался к их переулкам. Как сельский извозчик былых дней, он проводил каждую спутницу через сугробы до парадной двери. Всю дорогу он молчал, но когда мы вырулили на Симен Авеню, буркнул:
– Вот и встретили Новый год.
– Слышал, что вы прекрасно готовите карнацлех, – сказал я, просто чтобы что-то сказать.
Гарри сразу разговорился.
– Никаких в этом секретов. Если мясо хорошее, и вы знаете, сколько чего надо положить, то получится. У вас в Польше евреи ходили к раввину. В Литве они учились и ешивах, а у нас в Бесарабии ели мамалыгу, карнацлех и запивали вином. Там круглый год Пурим. Борис обозвал меня неучем. А я учился, я ходил в хедер по пятницам и знаю главу из Пятикнижия лучше, чем он. Только здесь, в Америке он малость поднабрался английского, у меня на это терпения не хватило. А идиш я знаю лучше него. И чего ради мне становиться гражданином? Здесь никто паспорт не спрашивает. Он пошел в бизнес, а я работал в лавках. Несколько лет мы вообще не встречались. Когда я пришел к нему, у него была жена, Генриетта. Гарпия и стерва.
Я у него спросил:
– Где ты выкопал себе такую Ксантиппу?
– Гершель, – сказал он. – Это было умопомрачение. Помоги мне, потому что, если ты не поможешь, она загонит меня в гроб.
Тогда они еще не развелись. У него была контора, и я туда переехал. От Генриеттиной стряпни у него началась язва желудка: она всё переперчивала. Черт ее знает, может хотела его отравить. В конторе была газовая плита, и я стал ему готовить. У него есть права, но он не умеет водить. Когда он ведет, обязательно попадает в аварию, так что я стал его шофером. Я сам умею читать знаки, и мне его помощь не нужна. Если я раз проехал по дороге, то потом узнАю ее, хоть среди ночи. Мы стали как братья, даже ближе. Он позволял ей терзать себя еще года два, и всего у него от нее две дочки и сын. Все никудышные. Старшая разводилась пять раз, а вторая злющая старая дева. Сынок стал адвокатом у гангстеров. Когда эти бандюги собираются на дело, то сперва идут к нему, и он учил их, как перехитрить закон. Борис говорит, что я лошадь украл. Не крал я ее: это была лошадь моего отца. На чем я остановился? Что Генриетта не давала ему развода. А зачем ей разводиться, если она имела всё, что ей надо. Сейчас стало проще отделаться от дрянной жены, а тогда каждая ента в Америке считала себя принцессой, и могла привлечь мужа к суду. Борис с ума сходит по бабам, а меня к ним не тянет. Почти все женщины охотятся за золотом. Им только деньги нужны. Я терпеть не могу их лисьи хитрости, а Борису нравилось, когда его за нос водят. Готов на колени становиться перед этими писательницами, художницами, артисточками, просто голову теряет, когда они начинают с ним говорить гладко, по-книжному. Когда он разошелся с Генриеттой, то переехал в квартиру на Парк-авеню, и я тоже переехал к нему из конторы. Часто возвращается домой и орет:
– Генри, у меня сил нет терпеть!! Все они притворные, как поганые боги!
– Так пошли их к черту.
Он падал на колени и клялся душой своего отца, что ноги его больше у них не будет, но на следующий день опять заваливался то к одной, то к другой.
– Он меня называет евнухом, а я – нормальный мужчина. Женщины любят меня за меня самого, а не за мои чеки. Откуда у меня возьмутся чеки? Борис помешался на деньгах, а для меня дружба дороже его миллионов. Я работаю на него задаром, как те рабы в Библии. Никогда ничего не имел от него, кроме куска хлеба и кровати. Нравилась мне одна девушка, и у нас могло с ней что-то получиться, но когда Борис услышал, устроил такой дебош, будто я его убить собрался. “Как ты можешь так со мной поступить!” – кричал он. Обещал взять меня партнером в свое дело – что угодно. Столько меня пилил, что я спасовал. К книгам меня никогда не тянуло, а вот театр я любил. Водил ее в еврейский театр. Всё с ней пересмотрели: Адлера, Томашевского, Кесслера. Мы с ней обменивались впечатлениями, как говорится, но я позволил Борису нас разлучить. У меня слабый характер. Он сильный, а я человек слабый. Он из кого угодно может веревки вить. Из-за него жены уходили от мужей. Он сманивал женщин из приличных домов и крутил с ними романы. Эта Перл Лейпцигер – для него просто пятое колесо в телеге. Некоторые его подружки уже состарились и скончались, другие – хворают. Одну он отправил в приют. Хвастается своим брюхом, а на самом деле у него язва не заживает. И давление высокое. Другой бы уже давно дух испустил, а он решил дотянуть до ста. Если он что-то решает, то делает. Была одна актриса, звали ее Розалия Карп. Красавица, каких мало, а голос – за пол-улицы слышно. Когда она выходила на сцену и играла Клеопатру, мужики с ума сходили. Тогда еще Борис мне всё рассказывал, и никаких секретов от меня не было. Один раз он вернулся из театра и говорит:
– Гарри, я влюбился в Розалию Карп.
– Желаю удачи, мазлтов, – говорю. – Только этого тебе не хватало.
– А в чем дело? Она создана для мужчин, а не для ангела Габриэля.
В те годы, если Борис влюблялся, то слал подарки своей избраннице: огромные букеты, коробки шоколада, даже меха. Конечно, мне приходилось мотаться между ним и ней, и не могу передать, сколько колкостей Розалия отпустила в мой адрес. Грозилась даже вызвать старшего. Один раз прямо сказала мне: “Что ему от меня надо? Знать его не желаю”. Потом говорит с усмешкой: “Если бы я вдруг оказалась на необитаемом острове с вами двумя, кого, ты думаешь, я бы выбрала?” Говорила так томно и со всякими женскими ужимками. Любой другой на моем месте знал бы, что делать, но я не могу фальшивить.
– Чем же кончилось, Борис ее добился?
– О чем спрашивать? А через два года выбросил, как старую калошу. Вот вам и Борис Лемкин.
Машина остановилась у моего дома на Сентрал-парк-вест. Я хотел выйти, но Гарри попросил:
– Подождите минуту.
На Нью-Йорк опустилась предрассветная тишина. Переключился светофор, но не проехала ни одна машина. Гарри сидел, о чем-то задумавшись. Кажется, он ухватился за загадку смысла своей жизни и пытался ее решить. Потом он сказал мне и самому себе: “Где я могу среди ночи достать утку? Нигде”.
Прошло года три. Как-то днем я сидел у себя в кабинете, вычитывая гранки, и вдруг увидел Гарри. Волосы его покрылись платиновой сединой, но выглядел он всё еще моложаво.
– Могу поспорить, вы меня не узнаете, – сказал он, – только…
– Я прекрасно вас помню, Гарри.
– Вы, наверно, слышали, что Борис почти год как умер.
– Слышал. Присядьте. Вы-то сами как?
– Аа-а, со мной всё в порядке.
– Слышал даже, что Борис вам ни гроша не оставил, – сказал я, тут же пожалев.
Гарри стыдливо улыбнулся:
– Он ничего никому не оставил, ни Перл, ни другим. Все годы он говорил о завещании, но ни одного не составил. Половина состояния ушла к Дядюшке Сэму, а остальное – жене, той самой стерве, и детям. Сынок его, адвокатишка у жуликов, прибежал прямо на следующее утро и вышвырнул меня из квартиры. Хотел даже вещи мои прихватить. Но я от этого не помер – слава Богу, сам себе могу на кусок хлеба заработать.
– Что же вы делаете?
– Ну, стал официантом. Не в Нью-Йорке: здесь меня профсоюз не пускает, а в гостинице в Кэтскиллс. Зимой уезжаю на Майами-Бич и работаю поваром в кошерной гостинице. Мои карнацлехи там прославились. А зачем мне деньги?
Минуту мы помолчали. Потом Гарри спросил:
– Вы, наверное, думаете, зачем я сюда пришел?
– Нет, совсем об этом не думаю. Рад вас видеть.
– Дело вот какое. У Бориса до сих пор нет памятника. Я несколько раз звонил его сыну, напоминал. Тот всё собирается заказать: завтра, попозже, через неделю. Я сам решил заказать ему надгробие: мы ведь были как братья. К нам как-то наставник приезжал в местечко и говорил, что даже Бог не может сделать бывшее не бывшим. Верно ведь?
– Вроде так.
– После Гитлера, как Бог может повернуть время вспять и сделать так, чтобы Гитлера не было? Мы с Борисом вместе выросли. Он не плохой был человек – только суеверный и слишком сильно себя ублажал. И завещания он не написал, потому что боялся, что если напишет, то раньше умрет. Мы были вместе больше сорока лет, и я не хочу, чтобы его имя забыли. Сегодня я приехал в Нью-Йорк этим заняться. Пошел к гравировщику и попросил его сделать надпись на идише. Я иврита толком не знаю, и Борис тоже не знал. Хочу, чтобы он вырезал на камне: “Дорогой Борис, будь здоров и счастлив, где бы ты ни был”, но резчик сказал, что нельзя писать “Будь здоров” мертвецу. Мы стали спорить, и тогда я сказал ему о вас, что я с вами знаком, и однажды мы вместе встречали Новый год. Он говорит, что если я подойду к вам и вы подтвердите, что так можно, то он это вырежет. Вот зачем я пришел.
– Боюсь, что резчик прав, – ответил я. – Вы можете сказать “Будь счастлив” мертвецу, если вы верите в загробную жизнь, но здоровье – это свойство тела. Как можно пожелать здоровья разложившемуся трупу?
– Значит, вы считаете, он может отказаться написать то, что я прошу?
– Гарри, это не имеет смысла.
– Но “здоровый” не значит просто здоровый. Говорят ведь: “В здоровом теле здоровый дух”.
Странно, Гарри стал спорить со мной об употреблении слов. Из его примеров я впервые понял, что на идише и “правильный”, и “крепкий духом” и просто “здоровый” выражаются одним и тем же словом “gesunt”. Я предложил Гарри написать вместо “здоровый” “довольный”, но Гарри не согласился:
– Я лежал много ночей и думал. Эти слова пришли мне в голову, и я хочу, чтобы надпись звучала именно так. Разве в Торе записано, что эти слова запрещены?
– Нет, в Торе такой закон не записан, но если кто-то пройдет и прочтет, то может улыбнуться.
– Пусть себе улыбается. Мне всё равно, и Борис никогда не обращал внимания, если над ним смеялись.
– Значит, вы хотите, чтобы я позвонил резчику и сказал, что так можно?
– Если вам не трудно.
Гарри дал мне номер. Хотя телефон стоял на моем столе, я пошел звонить в другую комнату.
Резчик пытался доказать мне, что желать здоровья трупу, это святотатство. Но я привел в опровержение цитату из Талмуда. Я чувствовал себя адвокатом, защищающим заведомого преступника. Наконец, резчик уступил:
– Если вы так решили, я так и сделаю.
– Сделайте, пожалуйста. Я беру ответственность на себя.
Я возвратился в свой кабинет и сквозь открытую дверь увидел, что Гарри сидит, погруженный в мысли. За окном был Уильямбургский мост и улицы Ист-сайда. Почти все доходные дома сносили или перестраивали, и я сам с трудом узнавал свой район. Золотая пыль осыпалась на останки зданий, канавы, бульдозеры, краны, кучи песка и цемента. Я стоял и разглядывал профиль Гарри. Как же он стал тем, чем стал? Как этот малограмотный человек достиг духовных высот, в которые залетает редко какой поэт или философ? Вернувшись от Перл Лейпцигер в четыре утра, я считал тот новогодний вечер потраченным зря. А теперь, четыре года спустя, я получил урок, который никогда не забуду. Когда я сказал Гарри, что надпись будет такой, как он хочет, лицо его просветлело.
– Большое вам спасибо. Это так любезно с вашей стороны.
– Вы один из самых благородных людей, которые встретились мне в жизни, – сказал я.
– А что я такого сделал? Мы были друзьями.
– Я не знал, что бывает такая дружба.
Гарри посмотрел на меня с вопросом. Он встал, протянул мне руку и пробормотал:
– Всю правду знает только Бог.
Исаак Башевис-Зингер
Перевод Самуила Черфаса.