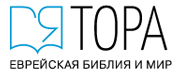Соломон Михоэлс, поэт и аналитик
Двенадцатого января в Минске трагически погиб (скорее всего, был убит) Соломон Михоэлс (Вовси) – выдающийся актер, руководитель Московского государственного еврейского театра (ГОСЕТ), глава Еврейского антифашистского комитета.
В 1981 году московское издательство “Искусство” выпустило книгу “Михоэлс: Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе . Ред.-сост. К. Л. Рудницкий”, в которую, среди прочего, вошли воспоминания Леонида Леонова, Ивана Козловского и других деятелей искусства, знавших Михоэлса.
Предлагаем читателям статью Ираклия Андроникова, вошедшую в этот сборник.
Не часто бывает, чтобы художник, даже и большого таланта, в равной степени обладал интуитивным постижением явлений жизни и такой же силой логического проникновения в их суть; способностью мыслить образно, воспринимать мир, как видит его поэт, и в то же время подходить ко всему строго аналитически.
Эта равносильная способность к синтезу и анализу отличала решительно все, чего ни касался в искусстве и жизни Михоэлс, удивительный актер, блистательный режиссер, мудрый толкователь искусства, один из замечательнейших представителей нашей театральной и общественной жизни двадцатых-сороковых годов.
Михоэлс был замечательным мастером великой актерской школы, основным достижением которой является человек со всем его душевным миром и опытом. Но в нашем театре — об этом мы как-то не говорим или говорим мало — сосуществуют два типа актеров. Выходит один — и за образом нельзя угадать исполнителя. И другой — мы сразу узнали его: это он! Но какой он сегодня новый! Какой небывалый образ он создает!
Вот именно таким был Михоэлс, поражавший разнообразием воплощений и полной независимостью от своих, не очень выгодных, сценических данных. И вместе с тем актер, налагавший на своих героев печать своего ума, своего таланта и художественного стиля.
В дружеских беседах Михоэлс часто напоминал, что настоящий актер нашего театра является перед зрителем как бы автором и произведением этого автора. И вот таким актером — автором и произведением одновременно — был прежде всего сам Соломон Михайлович Михоэлс.
Как в рассказе или романе большого художника мы все время угадываем его самого, так и Михоэлс — он умел и дойти до самых глубин созданного им образа и вместе с тем воспарить над ним. Скажем, скорбя в образе Сорокера в спектакле «200.000», он умел сообщить нам и свое ласково-ироническое отношение к нему.
Вспомним «Путешествие Вениамина III», когда Зускин — Сендерл и Михоэлс — Вениамин ходят по сцене зигзагами на цыпочках. И Михоэлс за спиной Зускина повторяет зеркально каждое движение его. Все всерьез. И все игра. Жизнь в образах во всем великолепии проникновения в их суть. И при этом — великолепный росчерк искусства: «Играем! Верим, что было именно так! И мы представляем это. Поверьте! И удивитесь тому, что даже и горькая жизнь становится возвышенной, когда переходит в искусство!» Вот что было в этой игре!
Какими средствами мог Михоэлс выразить всю эту гамму отношений? Эти вмещенные одна в другую сферы чувств? Эти «авторские ремарки»? Глаза! Глаза Михоэлса, полные мысли, огромные, глядящие и невидящие. Печальные. Озорные. Сощурившиеся от смеха в узенькие, хитрые щелочки. Разные в разных спектаклях — то глаза реб Алтера, то молочника Тевье, то короля Лира. Безумные. Строгие. Добрые. Но в краешке глаза всегда сам Михоэлс с его отношением к образу… Вот эта способность выражать свое отношение к созданному тобою и поглотившему тебя без остатка образу кажется мне одним из самых великолепных достижений современного театрального искусства. И изумительным мастером этого сверхобразного решения был Соломон Михайлович Михоэлс.
Михоэлс в роли короля Лира
Но Соломон Михайлович — это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер. Михоэлс — это явление советской культуры. Он не просто играл. И не просто ставил спектакли. Он искал новые пути. И находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды. Но она никогда не превращалась у него ни в копию жизни, ни в копию правды, никогда не бывала у него будничной, обыкновенной, похожей на тысячи других воплощений. Она всегда была новой, открытой вот только что, свежей, сверкающей и заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Да, он умел ставить спектакли, стопроцентно верные жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда! Разве можно забыть его «Фрейлехс» — спектакль, построенный на материале, который в прежние времена называли этнографическим и который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность и увлекательность и превратился в истинное событие!
Многие мысли, изложенные в беседах и статьях Михоэлса, и даже примеры отдельные мне приходилось слышать на «семинаре» от самого Соломона Михайловича. А это побуждает меня поделиться здесь некоторыми воспоминаниями. Однако для того, чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, придется хотя бы вкратце упомянуть о тех обстоятельствах, при которых мы познакомились.
Произошло это в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где тогда помещался Московский клуб мастеров искусств. Соломон Михайлович вместе с женой своей, Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс, пришел на мой вечер. И воспринимал все с такой живостью, с такой простотой, дружелюбием, непосредственностью, что я, хорошо видя его, — зал был маленький! — в тот же час мысленно посвятил ему всю программу и для него главным образом исполнял все свои «устные рассказы».
После этого мы встречались не раз, но в новую фазу знакомство вошло только лет через пять, когда Михоэлс предложил мне, как специалисту по Лермонтову, консультировать постановку лермонтовских «Испанцев», над которой собирался работать Еврейский театр. Тут я увидал его не только на сцене, но за кулисами — в общении с актерами, режиссерами, администраторами, рабочими сцены.
— Ты что? — спрашивал он вошедшего в его кабинет. И при этом клал на стол свою маленькую, властную, плавно-певучую руку…
Живой! Совершенно живой!.. Удивительно! Стоит вспомнить движение этой руки — и видишь, как он закуривает, как наклоняет голову, чтобы точнее сформулировать мысль, подносит сжатые в кулак пальцы к губам; видишь, в каком месте речи он разжимает их и кладет на стол ладонь, в каком набирает в легкие воздух и, вскинув глаза, обращается к собеседнику…
И с необычайной ясностью в памяти начинает звучать его речь — неторопливая, чистая, слышишь отчетливое произношение его, самый звук, самый тембр, не похожий ни на один театральный голос, этот голос — влиятельный, утверждающий, способный вместить любое, самое сложное содержание, голос — продолжение мысли!..
— Итак, чего же ты хочешь? — спрашивал он. И, выслушав вопрос или просьбу, несколько секунд думал, подымал и снова возвращал руку на стол. И отвечал. Отвечал, оставаясь самим собой, но в духе того человека, с которым беседовал.
Оставаясь самим собой, он выявлял одни грани таланта при Алексее Толстом, другие — в гостях у академика Капицы, третьи — в присутствии Вениамина Каверина, еще новые — в обществе Акакия Хоравы. Каждый человек, казалось, отпирал в нем ларчик, принадлежавший только ему, и сам открывался навстречу Михоэлсу, обнаруживая всегда самые лучшие свойства своей души и таланта.
Михоэлс охотно бывал с людьми, охотно бывал на людях. Дом его был всегда полон. Если не на чем было сидеть, садились на подоконник. В характере его было что-то студенческое, в прежнем понимании этого слова.
Никого не беспокоило, занят ли Соломон Михайлович. Видеть его можно было всегда. И всякий мог видеть его! Во многих, иногда даже очень хороших людях можно отыскать хоть капельку важности. Михоэлс был начисто лишен этой краски в характере. Он способен был играть в игры с друзьями, придумывая тут же, на ходу, образ, причем голова повязывалась полотенцем или косынкой, и начинался безудержный смех, остроумные выдумки — без конца.
В мае 1941 года вместе с Александром Александровичем Фадеевым я возвращался «стрелою» из Ленинграда — мы ездили по лермонтовским делам. Проходим сквозь пустой мягкий вагон и вдруг видим Соломона Михайловича. Вошли в купе. И не ложились спать уже до самой Москвы. Боже, как было весело!
Из хлебного шарика, который я катал со вчерашнего дня, я приделал себе черные усики. От этих усиков перешли к Чаплину, и Михоэлс стал говорить о том, почему горестное так смешно в воплощении Чаплина и почему Чаплин никогда не бывает сентиментален, хотя ходит по кромке, за которой У других начинаются сантименты. Пошел разговор о Чаплине.
И вдруг Фадеев спрашивает у меня:
— А что бы сказал по этому поводу Алеша Толстой?
Я ответил.
Тогда за дело взялся Михоэлс.
— А ну, Алешенька, — сказал он, — что ты думаешь о нас, собравшихся в этом купе?
И тут они по очереди стали «дразнить» меня, задавая мне… да нет, не мне, а, скорее, персонажам моим вопросы, на которые я должен был отвечать в образе.
Добрались до Лермонтова. В образе Лермонтова я отвечать не решился. Соломон Михайлович объяснил, что мне мешает ответить. Окружающие знают, что живого Лермонтова я не видал. И поэтому я боюсь, что мне не поверят. Но если бы я думал, что люди поверят, что я с Лермонтовым встречался, я бы рискнул. И поверили бы, наверно. Но я сам убедил всех, что мои изображения фотографичны. И это меня сковывает, ограничивает. Заговорили о том, каков был Лермонтов. Фадеев стал с увлечением читать «Дары Терека», «Дубовый листок…»… После Окуловки мы с Соломоном Михайловичем стали трубить и распевать Вагнера, что на Фадеева, насколько я понял, произвело наисильнейшее впечатление. Заливаясь тонким, фальцетным смехом, стараясь перекрыть наши «оркестры», он восклицал своим громким, слегка натужливым, я бы сказал — матовым, голосом:
— Я бы никогда не поверил, что вы знаете это. Но приходится верить, потому что вы совпадаете!
Вскоре началась война. И шел уже август 1941 года. Москва была в затемнении, стреляли зенитки, падали бомбы, и все мы несли дежурства на крышах, когда я как-то под вечер встретил Соломона Михайловича у Никитских ворот. И он пригласил меня в гости — на ночь, на кофе после бомбежки. От дежурств ПВО я бывал свободен только по средам. И вот в ближайшую среду засветло я ринулся в гости к Михоэлсам.
После отбоя из подъезда, где находился пост Соломона Михайловича, мы вернулись в квартиру, и началось кофепитие.
За столом сидели хозяйка, сам Соломон Михайлович, Зускины и еще какой-то актер, фамилии которого не запомнил. В эту самую ночь Михоэлс изъявил желание услышать все мои «устные рассказы», которые я исполняю, «играя» в них реальных людей, известных и неизвестных зрителю, входя в их образ, в их повадки, манеры, — говорить, смеяться, двигаться, мыслить.
Так возник наш «семинар». Я исполнял рассказ (слово «читал» не годится, потому что читать можно только написанное, а это рассказы устные). И тут же начинался анализ. Михоэлс проверял структуру рассказа, логику взаимоотношений (если в рассказе фигурировали двое или несколько персонажей). Выявлялась идея. Я начинал смекать, где недотянуто, где подробности, не идущие к делу, где не хватает в характеристике бликов. Михоэлс как бы продирижировал мною. Части рассказов уравновесились, говоря языком музыкальным — «звучности выровнялись». А в конце, под утро, подводились итоги занятия. И начиналась великолепнейшая беседа Михоэлса о законах искусства, о слове, о жесте, о пластике, мимике, о разнице между образом, характером и портретом.
Особое внимание Соломон Михайлович направлял на текст моих рассказов. Как уже сказано, текста своих «устных рассказов» я никогда заранее не пишу и наизусть не заучиваю, а воспроизвожу с разной степенью приближенности каждый раз наново. При этом текст, а иногда и характеристика лица, о котором рассказ, раз от разу меняются — их как бы сносит в сторону течением времени.
Эту независимость образа, несвязанность его с заранее сочиненным текстом, придумывание текста на ходу рассказа Соломон Михайлович объяснял тем, что для этого у меня есть предпосылка — поведение образа. Поведение же определяется теми обстоятельствами, которые только что возникли в ходе импровизируемого текста. «А это, — говорил Михоэлс, — и есть игра. Потому что истинная игра — это есть образ жизни в разных обстановках, жизнь образа в развитии человеческой судьбы».
Таких занятий в ночь со среды на четверг часов до семи утра летом и осенью 1941 года у нас состоялось шесть. Но шутки все равно не прекращались, даже в самых серьезных разговорах.
— Вот так-то, брат Ираклий, — говаривал Михоэлс, — Благословляю тебя. Преисполнись и примени.
А я отвечал:
— Батюшка Михалыч! Спасибо, что просветил, кормилец!
Когда три года спустя я приехал в Москву со своими фронтовыми рассказами, состоялось заключительное занятие «семинара». И Соломон Михайлович согласился произнести свое суждение о жанре устного рассказа в Доме актера и в Доме ученых, где должны были состояться мои вечера. А потом, уже после войны, мой вечер в театре! И снова произнес слово. Как жаль, что эти его выступления не записаны! Как я виноват! Редко вспоминаем мы, что сегодняшний день очень скоро станет историей.
По счастью, в бумагах Соломона Михайловича отыскалось неоконченное письмо ко мне, которое он диктовал жене в 1941 году, очевидно, в связи с «семинаром». Не стану приводить здесь того, что касается оценки рассказов. Процитирую только мысли Михоэлса о самом жанре. Он объясняет мне, что такое «судьба образа» и почему устный рассказ независим от задуманного заранее текста. Вот кусочек письма:
«Во время бомбежки, по-видимому, многое становится яснее, точнее и многое переоценивается с других позиций. Мы ведь с тобой заново “проработали” все твои работы, и я окончательно понял, вернее, увидел твою полную независимость от текста. Твое поведение в образе, зависящее только от ситуации, от отношения к окружающим, — поведение органическое и сохраняющее при том совершенное внешнее и (я бы сказал) внутреннее сходство. Органичное — это главное, из чего ты исходишь. Вот почему тебя не сковывает никакой “текст”. Ты даешь поведение (это самое главное в том образе, который ты вносишь) в любой, пусть даже неожиданной обстановке…»
И еще:
«Ведь образ не может быть значительным вне поведения и реакции на любое вторжение… Откуда ты берешь эти воображаемые, а частично и не воображаемые обстоятельства? Из самого себя. Ты “входишь в образ”, и ты не изменяешь ему потому, что ты, как и я, знаешь, что истинная игра поведения это есть образ человека в любой обстановке и в его судьбе (не понимай это в смысле рока!)».
В записную книжку 1944 года, очевидно, готовясь произнести вступительное слово в Доме актера, Соломон Михайлович вписал:
«Поведение — уже есть предпосылка для рождения текста именно в этих условиях, которые только что возникли… Поведение, как и на сцене. Это надо запомнить».
Драгоценные строки, разъясняющие общие творческие законы рождения образа сценического и рассказывания в образе. Образа, рожденного одним лишь воображением актера, исходящим из текста пьесы. И образа конкретного человека, возникающего в процессе импровизации от его лица характеризующего его текста.
Михоэлс в роли Менахем-Мендла (“Еврейское счастье”)
Для чего я привел все это?
Для того только, чтобы напомнить о необыкновенной творческой щедрости Соломона Михайловича, о его удивительной доброжелательности, заинтересованности в судьбах других людей, о жадном интересе его ко всему, что в какой-то степени связано с игрой и с театром. Я привел все это, чтобы напомнить о его постоянном стремлении не только воспринять, но осознать, осмыслить и оценить любой новый опыт. Разобраться. Произнести суждение не только на основании непосредственных впечатлений, но проверить их разумом, объяснить, истолковать. В этом малом факте (как и во всем) сказалось редкостное богатство натуры Михоэлса, соединявшего в одном лице практика и теоретика театра, поэта и аналитика.