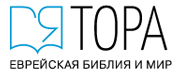Похороны Ахад А-Ама
Одиннадцатого июля 2019 года исполнилось бы сто лет известному израильскому писателю Биньямину Тамузу (Камерштейн; 1919, Харьков, — 1989, Тель-Авив) .
Предлагаем читателям небольшой рассказ юбиляра в переводе Лизы Чудновской, впервые опубликованный в тель-авивском журнале “Зеркало”.

В год смерти Ахад-а-Ама мне исполнилось семь лет.
Я не знал, кто такой этот самый Ахад-а-Ам, однако слышал в лавке Молчадского, что он тяжело болен и поэтому полиция перекрыла улицу на которой он живет. Он, мол, не выносит шума, и повозкам с автомобилями не позволяют проезжать мимо его дома. Все это немало удивило меня, и я решил, что Ахад-а-Ам — это наверняка самый важный человек в городе.
В общем, эта история произвела на меня неизгладимое впечатление, но и немного разозлила. Почему Ахад-а-Аму все, а другим — ничего? Я начал интересоваться. Мама с папой ничего не знали, так как читали одну-единственную русскую газету, доставлявшуюся из Парижа; называлась она «Последние новости» и в ней, разумеется, ни слова не говорилось об Ахад-а-Аме. Но в конце концов и они услышали о нем от старого Молчадского, получавшего из Варшавы «Гейнт» на идиш. Там-то и было написано об Ахад-а-Аме, о полиции и о повозках. Слух распространился по всей округе, теперь только и разговору было, что о болезни Ахад-а-Ама.
В те дни мы жили в районе АПК, названного так по имени Англо-Палестинской Компании, продавшей под застройку земельные участки недалеко от границы с Маншией, где жили арабы, которые тоже, разумеется, слыхом не слыхивали об Ахад-а-Аме.
Таким образом, мы оказались единственными осведомленными во всем районе, а главным образом я, с нетерпением ожидавший развязки.
Старого Молчадского я не любил, однако побаивался. Даже одаривая конфетами из своей лавки, он не упускал случая больно ущипнуть меня за щеку, словно пытаясь вырвать из нее кусок плоти. Такой уж у него был характер. Ничего, кроме разговоров, от него невозможно было добиться даром. Зато посудачить он очень любил, и если я его о чем-нибудь спрашивал, то непременно получал гораздо более пространный ответ, чем дала бы мне мама, вечно занятая своими делами, или отец, ничего кроме своей работы знать не желавший; но именно его работа почему-то интересовала меня меньше всего. Меня, к примеру, ужасно занимала история с Ахад-а-Амом и полицией. Но папа отрезал неизменное: «Глупости». Тогда я отправился к Молчад-скому с целью подробно разузнать у него, что пишут в «Гейнте».
Сначала писали: так и так, болен, мол, ему необходим полный покой, который-де обеспечивает полиция. Но об этом я уже рассказывал. Потом написали, что его состояние ухудшилось, и только в конце решились раскрыть всю правду: оказалось, что Ахад-а-Ам — это вовсе никакой не Ахад-а-Ам, а самый обыкновенный Гинсбург, в России он писал всякие опасные вещи, а чтобы его не поймали, переоделся Ахад-а-Амом. Но потом ему все равно пришлось бежать, и он уехал в Англию, где торговал чаем в магазине и довольно прилично зарабатывал до тех пор, пока не приехал в Эрец-Исраэль и не поселился возле гимназии «Герцлия».
Папа с мамой говорили, что если я буду хорошо учиться в начальной школе, меня непременно пошлют в гимназию «Герцлия». Поэтому ее название мне было знакомо задолго до того, как я впервые услышал имя Ахад-а-Ама. Так что ничего нового для себя я не открыл, узнав, что Ахад-а-Ам является соседом гимназии «Герцлия».
В конце концов в газете опубликовали его фотографию и написали, что он скончался. Старый Молчад-ский позволил мне поглядеть на фотографию. Никто и никогда не преподносил мне большего сюрприза. Я всегда считал, что у человека, который пишет, а тем более пишет что-то опасное, должны быть копна волос, густая борода и глаза навыкате (должно быть, от постоянного писания, требующего напрягать зрение). Однако лицо Ахад-а-Ама напоминало что-то вроде треугольника: сверху широкое и лысое, а внизу узкое и заостренное.
С тех самых пор я получил совершенно иное представление о «людях пера». Я понял, что главное в них — это ум, поэтому он занимает особенно много места, а вот нижняя часть лица у них немного ссохшаяся оттого, что остальное не имеет для них такого высокого значения. Кроме этого, у него были очки, впрочем, как и у всех людей подобного рода, с одним лишь отличием: ни золотой оправы, ни даже дужек у них не было. Два стеклышка соединялись крючком, седлавшим переносицу и оставлявшим на ней неизменную красную отметину. Благодаря этому крючку очки удерживались на носу. Не очень удобно, конечно, зато производит впечатление. За такими очками, пожалуй, приходилось неусыпно наблюдать, чтобы не дай Бог не соскользнули и не разбились о пол.
Самого Ахад-а-Ама, разумеется, все эти проблемы ничуть не занимали. Судя по фотографии, у него были другие заботы. По крайней мере, выражение лица у него было очень озабоченное. Вот и Молчадский мне рассказал, что Ахад-а-Ам только и делал, что беспокоился о судьбе нашего народа, стремясь разрешить все его проблемы. Благодаря этому он прославился, и этим объясняется почтительное отношение к нему полиции.
Я спросил Молчадского, когда состоятся похороны, так как чувствовал, что просто обязан на них присутствовать. Во-первых, билетов покупать не нужно, а во-вторых, любопытно. Молчадский справился в газете и сказал, что похороны — во вторник, в три часа пополудни, сбор у дома покойного. Когда я узнал об этом, был уже понедельник.
Вечером я сообщил родителям о том, что хотел бы пойти на похороны Ахад-а-Ама. Папа бросил: «Не говори глупостей». А мама сказала: «Только сначала приготовь уроки».
Таким образом во вторник, примерно в полтретьего, я оказался возле гимназии «Герцлия». Усевшись на лестнице дома, в котором находился книжный магазин, я принялся ждать. Лучше уж прийти на полчаса раньше, чем на полчаса позже, рассудил я.
Я терпеливо ждал, но, к моему великому удивлению, никто так и не явился. Через несколько часов я решил отправиться прямиком на кладбище, располагавшееся на улице Трумпельдора.
Там было довольно тихо, только несколько женщин плакали возле разных могил, ни одна из которых не была могилой Ахад-а-Ама. Спросить было неудобно, да я и не привык заговаривать с незнакомыми людьми. Резонно рассудив, что похоронной процессии никак не миновать улицы Алленби, я решил возвращаться именно по ней, в надежде встретить процессию на обратном пути. Вне всякого сомнения, задержка была вызвана какими-либо непредвиденными обстоятельствами.
Кажется, к тому времени я уже изрядно устал. Со скамейки, на которую я присел отдохнуть, мне был хорошо виден каменный дом на улице Геула, в нем располагалась парикмахерская, хозяин которой прибыл в Палестину с тем же самым пароходом, что и мои родители. В этой парикмахерской обычно стригся и брился мой отец.
Я сидел и упорно ждал появления похоронной процессии, к которой намеревался присоединиться. Вместе мы свернем направо, на улицу Пинскера, ведущую к кладбищу. Таков был мой план. Потом я задремал.
Не знаю, сколько времени я проспал до того момента, когда почувствовал, что чья-то рука осторожно коснулась моего плеча. Спокойно, без криков, кто-то произнес надо мной: «Мальчик, просыпайся, мальчик». Сначала было ужасно темно и немного прохладно, но понемногу мои глаза привыкли к темноте и я различил человеческий силуэт. Человек этот был не такой, конечно, старый, как Молчадский, однако и не такой молодой, как я — короче, человек среднего возраста, лет эдак шестнадцати. Потом выяснилось, что ему было все двадцать три года, но в момент своего пробуждения я не мог этого знать.
«Послушай, — сказал он мне. — Я живу в доме напротив и уже давно заметил, что ты здесь сидишь. Сейчас уже поздно, ты, наверное, заснул, и дома за тебя волнуются. Я мог бы проводить тебя. Где ты живешь?»
Встав, я почувствовал, что судорога свела мне ногу; все же я устоял. Я разглядывал его: приятный парень, производит хорошее впечатление и говорит красиво. Я посоветовал ему не беспокоиться за меня и добавил, что все будет со мной в порядке. Хотя честно говоря, мне было слегка не по себе от мысли, что придется идти одному до конца улицы Геула, а затем по улице Яркой до самой мечети Хасан-Бек. Не то чтобы я боялся, но ведь в темноте ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому я надеялся, что он все-таки не позволит мне пуститься в обратный путь в одиночку; так оно и произошло. Он убеждал меня вежливо и вместе с тем настойчиво. Наконец я принял его предложение, дал ему руку и мы начали спускаться вниз по улице Геула.
Все взрослые, когда впервые видят тебя, обычно спрашивают, как тебя зовут, он тоже спросил, а я ответил: «Эльякум». Тогда он сказал, что его зовут Виктор. Сначала я подумал, что он заливает, но потом поверил. Ведь когда узнаешь человека поближе, сразу видишь, кто он такой на самом деле. Еще он спросил, сколько мне лет, и я ответил, что семь, а он сказал, что ему двадцать три. Потом я рассказал, что учусь в начальной школе в Геуле, на что он ответил, что уже закончил учиться и теперь работает переводчиком с трех языков: иврита, арабского и французского. Я и тут поначалу решил, что он привирает. Но теперь я уверен, что ъ его рассказе все до последнего слова было чистой правдой. Мы шли медленно, да и не побежишь по песку. Он заметил, что мне тяжело, и рассказал анекдот: Почему сыны Из-раилевы шли по пустыне из Египта целых сорок лет? Это оттого, что они шли босиком, а если бы были в сандалиях, то и через восемьдесят лет, пожалуй, не добрались бы. Мы рассмеялись; вообще-то я тоже знал этот анекдот, только не умел его так смешно рассказывать.
Когда мы проходили мимо моей школы, я сообщил Виктору, что учусь здесь. Он поинтересовался, нравится ли мне учиться, а я ответил, что как когда.
Потом он спросил, чего это мне вздумалось спать на скамейке. И тогда я поведал ему историю об Ахад-а-Аме, о чайном магазине в Англии и о многом другом, а под конец добавил, что настоящая фамилия Ахад-а-Ама — Гинсбург.
Виктор остановился, внимательно поглядел на меня и осведомился: «Ты хочешь сказать, что спишь на этой скамейке двенадцать дней подряд?» От такого вопроса можно просто сойти с ума. Двенадцать дней я сплю на скамейке, а мои родители ума не приложат, что со мной стряслось. Ну, это уж слишком! Полдня меня нет дома, вокруг этого уже раздувают целую историю. Того, что теперь будет, я даже вообразить себе не мог. Я спросил Виктора: «Чего это вдруг двенадцать дней?» Он сказал: «Потому что Ахад-а-Ам умер ровно двенадцать дней тому назад, и я собственными глазами видел из окна похоронную процессию».
— Так почему же я думал, что это сегодня? — спросил я Виктора.
— Кто тебе это сказал? — осведомился он.
Тогда я рассказал ему о нашем хозяине лавки Молчадском.
— А он откуда взял такую глупость? — продолжал расспрашивать Виктор.
— Из газеты.
— Из какой газеты?
— Из «Гейнта».
Еще я поведал ему о том, что мои папа и мама читают только «Последние новости» и что там ничего не писали об Ахад-а-Аме, а вот в «Гей-нте» все время писали и наверняка не врали, так как газета прибывает из-за границы.
— Откуда? — спросил Виктор.
— Из Варшавы, — ответил я.
В ответ он безудержно расхохотался, а когда успокоился, объяснил мне, что газеты из-за границы приходят по почте, иногда это занимает две недели; вот и та газета, где опубликовали фотографию Ахад-а-Ама, наверняка была двухнедельной давности.
«Ну вот и посчитай теперь сам, две недели и двенадцать дней — это же почти одно и то же», — Виктор смеялся, а вот мне было не до смеху. Увидев, что я насупился, он успокоил меня: «Не расстраивайся и ни о чем не жалей, Эльякум. Если бы не эта твоя ошибка, когда бы мы с тобой еще встретились?»
Я хорошо расслышал его слова, но упорно продолжал молчать. Думаю, что не было на свете человека счастливее меня в те минуты. Виктор спросил, слышу ли я море. Я ответил, что слышу. А он сказал, что это верный признак того, что мы приближаемся к набережной, и еще чуть-чуть свернем налево, на улицу Яркой. Я прошептал, что лучше бы это было подальше и мы шли бы подольше. Тогда Виктор сказал, что время исчисляется не в часах, а в дружбе, и что у нас с ним впереди целая жизнь, и какое нам вообще дело до времени. Кажется, я не понял его тогда, но сегодня понимаю вполне. Только где сегодня Виктор?
Мы продолжали идти; Виктор спросил: «Хочешь, я спою тебе одну песенку?» И запел: «На всех кораблях зажглись субботние свечи», — вот и все. Потом он попросил меня что-нибудь спеть, но я застеснялся. Тогда он спел другую песню: «Эй-лейль, эй-лейль, родина моя», — и сказал, что поэты — это, пожалуй, самые великие люди на свете. Я осведомился, не считает ли он их более великими, чем Ахад-а-Ам. Он ответил, что это безусловно так. Я удивился, но спорить не стал.
Заметив, что мы приближаемся к дому и уже проходим мимо лавки Молчадского, я почувствовал, что вот-вот расплачусь от радости. От радости ли… Хорошо, что было темно. Стараясь сдерживаться, я указал ему на лавку; он засмеялся и посоветовал мне завтра же убедить Молчадского читать газеты на иврите: «Скажи ему: еврей, говори на иврите».
Мы поднялись по лестнице, и Виктор сам постучал в нашу дверь. Не успел я переступить порог, как папа, не дожидаясь объяснений, закатил мне звонкую пощечину, а мама, рыдая, бросилась меня обнимать. Тогда Виктор вежливо попрощался и вышел.
На пощечину мне было наплевать, и как только мне удалось вырваться из маминых объятий, я бросился на балкон, перегнулся через перила и увидел, как Виктор, выйдя из нашего подъезда, сворачивает направо. Выкрикнув: «Ты хороший человек, Виктор, я люблю тебя!» — я поспешил присесть, чтобы он не заметил меня на балконе и удивился. Наклоняясь, я так сильно стукнулся подбородком о перила, что сразу же почувствовал во рту вкус крови.
Мама очень перепугалась, да и папа тоже, оба они сразу же принялись за мной ухаживать: перевязка, бинт и прочее — но в самом разгаре лечения я уснул. Не то чтобы я очень устал, просто мне хотелось побыть одному. То есть еще немного побыть с Виктором.
В ту ночь Виктор не снился мне, зато потом еще как снился, и снится по сей день.