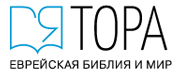Осень на море
Острее пахнет миро водных трав,
и мертвые медузы —
осколки бирюзы
на золоте песчаном
мягчайший свет
в разбитых ракушках,
наполненных водой;
и облако, испив дождей,
льет
сызнова свинец
на волны
и бездны углубляет:
мрак и ужас.
(1966)
Стихотворение будто воспроизводит ритм прибоя. Отдельные знаки препинания лишь подчеркивают отсутствие других, и синтаксис делается зыбким, как волна, которая то набежала, то отхлынула. Можно прочесть так: «медузы — осколки бирюзы. На золоте песчаном мягчайший свет в разбитых ракушках…». А можно и иначе: «медузы — осколки бирюзы на золоте песчаном. Мягчайший свет в разбитых ракушках…».
Миро — на иврите мор — благоуханное масло, а также растение, из которого его приготовляют. Это слово не раз встречается в книгах Танаха, например, в Песни Песней, где оно метит тему любви: «Уста его — лилии, истекающие миром текучим» (5:13), «Пучок мира — возлюбленный мой для меня» (1:13). Комментаторы сообщают, что миро добавляли в елей помазания на царство. А тут в роли миро выступают остро пахнущие, отнюдь не ароматные водоросли, и это необычное сочетание цепляет внимание, словно предвещая неладное. И впрямь следом развивается тема смерти: мертвые медузы, разбитые ракушки, мрак и ужас, — так что даже свинцовый цвет туч вдруг обретает первозданный смысл — цвет металла, из которого льют пули. Неужто осень на море столь трагична?
Эстер Рааб (1894–1981) была первой ивритской поэтессой, родившейся на Земле Израиля, в сельском поселке Петах-Тиква. В конце 20-х, в расцвете зрелости и зените славы, она с мужем жила в Тель-Авиве, где их «красная вилла» стала первым литературно-артистическим салоном, по примеру парижских. Многие еврейские художники, скульпторы, поэты, в том числе те, кто жил или временно работал в Париже, навещали этот дом. Он и внешне казался пришельцем из будущего. Эстер вспоминала: «В те дни все это было дерзко и ново. Тель-Авив застраивался в смешении стилей: барокко, викторианский восток, арочные двери и окна, лепнина в виде цветов, округлые и треугольные веранды, башенки, напоминавшие сторожевые вышки средневековых крепостных стен… Но никто не видывал тут дом в форме куба, пусть и удлиненного, с плоской крышей, весь — квадраты и прямоугольники, прямые линии и поверхности». Этот красный дом был в диковинку, и столь же яркими и необычными были его хозяева и гости.
И еще одна особенность Рааб: она как никакой другой поэт Израиля знала местную флору. В ее стихах все растения названы по именам: «Я нынче устроила встречу / с двумя тополями высокими / и стройною пальмой одной», «Я здесь, под тамариском», «аллея казуарин», «седой эвкалипт», «сосны, глядящие в мое окно» — не исчерпать. Так же точно она фиксирует запахи, освещение, настроение природы.
А жизнь в Тель-Авиве сроднила ее с морем, куда Рааб приезжала купаться и потом, уже живя в других районах страны. Морю посвящены многие вполне оптимистические стихи, например:
Под знаком таммуза нас море захватит,
лазурь его в нас — что вино молодое,
вино голубое, насыщено вкусом,
насыщено цветом,
нагружено водорослей ароматом…
(1957)
Таммуз — месяц летний, который приходится примерно на июль, и нет в нем ни мрака, ни ужаса. Что же заставило поэтессу увидеть их в осенней морской глубине? Почему она замечает только лишенные жизни организмы?
Не осень тому причиной и не море. Эстер Рааб тяжело переживала смерть любимого младшего брата Биньямина, которого не стало незадолго до прихода той осени. Два года спустя она посвятит памяти брата стихотворение, где скажет: «Свет кругом — а я слышу мрак: / неразлучны души». Это признание в эмоциональной субъективности взгляда объясняет тональность стихов: в морском пейзаже отразилось ее личное чувство утраты и страх смерти.
При чтении этого стихотворения Рааб мне вспомнились другие строки:
Звучала музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Столь же точное и субъективное описание у Ахматовой. С него она начала рассказ о своей утрате: долгожданное свидание с любимым убедило поэтессу в отсутствии взаимного чувства.