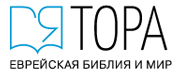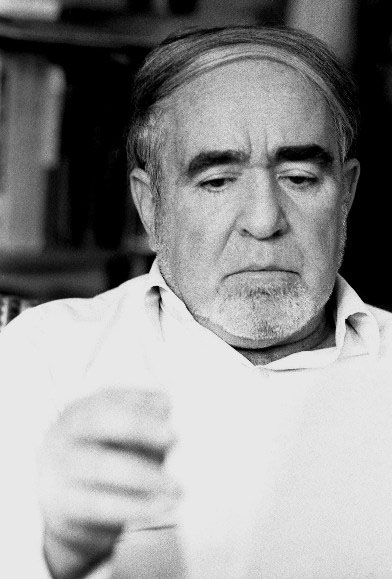Одну минуту, тише, пожалуйста
Как сообщают израильские СМИ, сегодня скончался известный израильский поэт, переводчик и литературовед, лауреат премии Израиля и премии Бялика Натан Зах (Харри Зайтельбах, 1930-2021).
Зах одился в Берлине, с 1936 года жил в Хайфе. Участвовал Войне за Независимость и в последующих израильских войнах. В 1955 году опубликовал свой первый сборник — «Ширим Ришоним» («Первые Стихи»), и перевёл несколько пьес с немецкого.
Зах стал одним из первых поэтов, которые начали публиковаться после основания Государства Израиль, и оказал огромное влияние на развитие современной ивритской поэзии как редактор, критик, переводчик и поэт. В своих стихах Зах сочетает разговорный язык с высоким стилем.
Предлагаем читателям несколько стихотворений Натана Заха в переводе Александра Авербуха.
Одну минуту, тише, пожалуйста. Прошу вас. Я
хочу кое-что сказать. Он прошёл
мимо меня. Я мог коснуться края
его пальто. Не коснулся. Кто же мог знать
то, чего я не знал.
Песок прилип к его одежде. В бороде
застряла солома. Видимо, ночь до
этого он спал в копне. Кто же
мог знать, что наутро
он опустеет, как птица, затвердеет, как камень.
Я не мог этого знать. Не виню
его. Иногда я чувствую, что он встаёт и,
не проснувшись, как море-лунатик, проходит
мимо, говорит
мне: сынок.
Сынок. Я не знал, насколько ты близок.
Поцелуй
Сегодня впервые поцеловал
руку отцу, это
произошло после фильма,
в котором сын целует руку отцу,
а отец — сыну, я не
знал, что фильм может привести к
таким переменам, не говоря
об отцах, которые уже не
в состоянии целовать своих сыновей. Жаль
тех, кто покинул нас навсегда,
но так и не смог
исправить даже такую малость,
разве что
в фильме.
Выслушать её
Мне пора уходить. Мне нужно собрать немногие вещи
и упаковать их в открытый чемодан. Я пробыл здесь
дольше благословенного года. Теперь мне пора уходить.
Это чувство пришло на закате.
Я даже не думал противиться:
ощущение времени у меня не связано с болью.
Цвета наступают. Добро пожаловать, потаённые. Воздух
теребит стрекочущие деревья как у́гли —
жемчуг на обшитом стекле, ветви и листья.
Пора уходить, пока не стемнело: ночь балаболит по-шакальи, запирает
мир, как будто уносит клад в темноту.
По ней тоскует сейчас каждая жилка, и я нездоров, глажу рукой
по лицу, чтобы гладить лицом по её рукам, слушать опять
у её ушей, как ночь поднимается из её говора, не даёт
уснуть, чтобы выслушать её хотя бы теперь.
* * *
Но, по крайней мере, тоже кое-что о войне.
Чтобы не было всё-таки слишком приятно и слишком вежливо
и чтобы, не дай бог, не были довольны те, кто между собой
этого не называют, но говорят: вот так хорошо,
это ещё можно перетерпеть или даже принять.
Собственно, он не настолько от нас отличается:
всё, чего он просит, — это немного внимания.
Несомненно личное
«Аду противостоит — только любовь».
Земля, до которой ты не дойдёшь, —
отдана не тебе,
рай отложим на завтра.
После 1914-го были ужасные годы,
да и после войны некоторое время
было не легче.
«Он человек поколения, опалённого войной». Потому и
озлоблен. Иногда в его горле даже
клокочет ненависть.
Но по ночам его ласкает музыка,
и сон обменивается взглядами
с незнакомкой.
Вот тут главная ошибка. Земля,
до которой ты никогда не дойдёшь,
никому не была отдана даром.
Три
Три близорукие
носят очки и контактные линзы,
остерегаются по ночам, промывают
особой жидкостью увиденные
за день зрелища,
раз в год меняют очки.
Линзы всё толще и толще,
не молоды, ещё не беременели,
стареют, как на цыпочках.
Ещё не рожали,
остерегаются читать в кровати,
вспоминают любовь на ложе,
любовь, которая была не их любовью.
Глазами, больными глазами
они видят вблизи
удаляющийся жестокий мир.
Иногда их сердца будто бы окунаются в вино,
с туманной неожиданной злобой,
почти граничащей с болью,
они посмеиваются: «я тебя почти не вижу,
подойди ближе, тебя почти уже нет».
* * *
Боги почитают поэтов
и забирают прекрасное, и потому,
как известно, они ведут себя так, как ведут.
Я хочу пожать руки некоторым поэтам,
которых я люблю, но их здесь нет.
Передайте им привет. Они люди. Если увидите
их, скажите, что это всё.
Пока эта грудь дышит,
они мои, а я их. Человеческий язык —
прекраснейший из языков. Кровь может струиться, а может течь. Человек
по сравнению с этим может только пить. И то
в умеренных количествах.
* * *
В порту выгружали золото
Офира.
Сквозь жалюзи слышалась
музыка.
Но я знал, что так нельзя.
Нельзя.
Может, только лет через пятнадцать,
через тридцать,
через сорок пять
лет,
когда я буду молча лежать в тёмной
комнате
раздетый,
золото выгрузят.