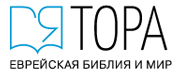Евреи молчания: Глава 2. Страх
Глава 2. Страх
(К Главе 1. )
Чего они боятся? Я не знаю. Может быть, боятся задать вопрос и никогда этого не делают. Я не боялся спрашивать, но мне никогда не отвечали. Официальные государственные экскурсоводы резко отрицали факт наличия подобного феномена; западные дипломаты, с которыми я консультировался, просто сказали, что для них это неразрешимая загадка. Что же до евреев, то они лишь грустно улыбались в ответ: «Вы иностранец. Вам этого не понять».
Не могу сказать насколько оправданы эти страхи, однако я знаю, что они есть, и что они гораздо глубже, чем мне представлялось возможным. В одном городе за другим они представали предо мной, словно неприступная стена; по другую сторону, выглядывая в щели, таилось нечто неведомое.
Снова и снова люди, с которыми я беседовал, уходили не попрощавшись, бросив меня посредине фразы. Тот, кто разговаривал со мной вчера, сегодня делал вид, что меня не знает. Некий техник, назначивший мне встречу в синагоге, чтобы передать данные, касающиеся его брата, живущего в Филадельфии, так и не явился. В Москве я познакомился с французским евреем, который сказал мне, что приехал в Россию повидаться с сестрой, которую не видел с войны. Когда он пришел к ее дому во Львове, она отказалась его впустить. Позже она пришла к нему в гостиницу, и все пять минут, что она позволила себе остаться, умоляла его покинуть город и вернуться в Москву, а лучше всего во Францию. «Но почему, почему?» – кричал он. И чтобы успокоить его, я говорил: «Все в порядке. Разве вы не понимаете? Она просто боится». Он снова раскричался: «Кого? Чего?». Ответа у меня не было.
Возможно, боятся действительно нечего. Возможно, в отсутствие объективных коррелятов, их темный иррациональный страх существует сам по себе, без всякой причины или цели, лишенный какой-либо полезной функции, не способный оправдать себя логическими доводами. Он существует потому, что существует, поэтому с ним невозможно бороться. Никакие аргументы, никакие самые разумные рассуждения не помогут объяснить природу этого страха, не говоря уже об избавлении от него.
По всеобщему утверждению, эпоха террора осталась в прошлом. Маниакальный сталинский контроль над страной принадлежит истории. За последние десять лет в России что-то произошло. Произошли реальные изменения, от которых невозможно с легкостью отмахнуться, объявив их вымышленным продуктом мощной пропагандистской машины. Население начало пользоваться благами общества. Напряжение заметно спало. Если вы остановите на улице прохожего, он не побоится заговорить с вами. В самолете сосед, оказавшийся в соседнем кресле, поддержит беседу, возможно, даже начнет шутить. Время от времени вам может встретиться гражданин, знающий английский, который согласится, что стране рабочих и крестьян еще только предстоит стать подлинным земным раем. Молодые люди, танцующие твист в русских ночных клубах, могут посрамить Сан-Франциско.
И только евреи живут в постоянном страхе. Да, порой соглашаются они, времена действительно изменились, и к лучшему. Однако за этим не следует никаких объяснений, но лишь утверждение: «Вы все равно не поймете».
Это правда. Я действительно не понимаю. Почему они так подозрительны? Почему ведут себя, словно сообщество запуганных пленников, словно они находятся на краю чудовищной бездны. Никто не отрицает, что евреи выиграли от нынешних послаблений. Писателей, которые были казнены или объявлены вне закона, постепенно реабилитируют. Десятки тысяч евреев, обвиненных в «еврейском национализме» и приговоренных к тюремному заключению, вышли на свободу. Больше не опасно считаться еврейским писателем, пишущим на идиш[1]. Снова можно услышать о музыкальных вечерах, целиком и полностью посвященных идишской песне, или о публичных чтениях литературных произведений на идиш. Ежемесячно появляется свежий номер еврейского журнала (о качестве публикуемых в нем материалов мы сейчас говорить не будем). Легендарный образ Соломона Михоэлса воскрес[2], и даже Илья Эренбург публично гордится тем, что некоторые еврейские писатели входили в число его ближайших друзей[3].
Почему же они боятся? На протяжение своего пребывания в России я пытался точно установить, какие последствия может иметь смелость, но безрезультатно. Я забрасывал своих хозяев вопросами. Того, кто заговорит с евреем из-за границы, бросят в тюрьму? Если вас увидят прогуливающимся с гостем из Америки или Израиля, вас что, казнят? Мне нужно было одно единственное доказательство, один пример, который убедил бы меня в наличие явной опасности, неизбежности суровой кары. Однако все мои просьбы ничего не дали. «Сделайте мне одолжение» – сказал мне один еврей, – «не задавайте простых вопросов». Другой еврей сказал: «Если я вам расскажу, вы мне все равно не поверите. А даже если поверите, то все равно не поймете».
Вскоре я убедился, что у нас нет общего языка, что они упорно рассуждают в терминах «мы» и «они». Не удивительно, что они отказываются разговаривать с чужаком; какой смысл в разговорах? Не важно, что ты скажешь, тебя все равно не поймут. Страх создал свой собственный язык, и только тот, кто день за днем живет с этим страхом, может надеяться понять хитросплетения его синтаксиса.
Тем не менее мне удалось найти разгадку этой загадки – нет, не чего они боятся, но кого: доносчиков. Доносчиков, еврейских агентов тайной полиции, которые приходят в синагогу, чтобы следить за другими евреями. У них есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и руки, чтобы писать. Поэтому вы всегда должны знать, кто стоит перед вами, поскольку вы знаете, перед кем должны будете держать ответ и давать отчет.
Сначала я отказывался этому верить. Идея, что еврей доносит на еврея, тем более в Доме Всевышнего, казалась слишком уж отвратительной. Однако они в это верят. Множество раз, в Москве, Ленинграде и особенно в Киеве, тихий шепот предупреждал меня: «Взгляните на этого – он работает на них». Их подозрительность не знает границ. Никто никому не доверяет. На еврея, глубоко погруженного в молитву, могут указать как на лицемера и агента властей, который служит не Богу Израиля, но его врагам.
Я пытался протестовать: откуда вы знаете? Может быть, вы без всякой причины оговариваете достойного человека?
«Вы будете рассказывать нам, что правильно и что не правильно?». В их взгляде сквозила не то печаль, не то издевка. «Вы собираетесь учить нас, кто виноват, а кто невиновен?». Удивленный и пристыженный, вы можете лишь умолкнуть, столкнувшись с подобным всплеском эмоций. Насколько обоснованы их подозрения, не так уж важно. Они считают их обоснованными, и эта убежденность является важнейшим компонентом страха, в котором они живут.
Несколько раз я становился свидетелем инцидентов, которые показались бы смешными и абсурдными, если бы не были трагичными. «Видите этого рыжего», – шептал мне на ухо какой-то еврей – «сидящего в третьем ряду, и делающего вид, что молится от всего сердца. Держитесь от него подальше, он один из них». Не пройдет и часа, как этот самый рыжий обратится к вам тихим голосом: «Тот еврей, с которым вы только что говорили… Мы хорошо его знаем. Он работает на них».
Вы не в силах понять этих евреев, и именно это вас больше всего шокирует. По субботам и праздникам, когда вы видите их стоящими на улице или собравшимися в синагоге, они выглядят угнетенными и несчастными. Кажется, что они, пригнувшись, бредут сквозь мир мертвых; в их глазах мерцают какие-то печальные, глубокие тайны. Вы их жалеете. В той или иной степени вы понимаете их печаль. Печаль, но не страх. Я заметил, что испытываю трепет, когда спрашиваю, что же произошло, что между нами выросла стена, мешающая мне хоть немного понять, в чем причина их страха. Разве я не такой же еврей, как они? Разве мы не братья, носители одной и той же древней традиции и разделяющие общую веру, что народ Израиля вечен? Разве мы не соблюдаем одни и те же заповеди, призванные освятить нашу жизнь? То, что нас может разделять такая пропасть, казалось совершенно невозможным. И тем не менее, возможно, кажется, все. Страх служит точкой контакта, связывающей нас друг с другом, однако мы стоим по разные стороны черты, лицом друг к другу. Все, что я могу, это молиться, чтобы они почувствовали мою боль, а я смог действительно почувствовать их страх.
Если бы, охваченные страхом, они впадали в массовую истерику, мне было бы не так больно. Если бы они стонали, рыдали, массово страдали нервными срывами, я знал бы, как реагировать и что делать, а самое главное – что думать. В моем мозгу возникли бы аналогии из недавней еврейской истории или эпохи российских погромов. Однако в еврейской истории нет ничего, что можно сравнить с этим всеобъемлющим безмолвным страхом. Может быть, у него свои правила, а может быть, нет. Может быть, у него вовсе нет никаких правил, и он отрицает всякую логику и недоступен человеческому пониманию. Подобный страх, с его абсолютной властью, может охватить только тех, кто страдает от подавляющего ощущения собственной гонимости. Лишенные помощи, жертвы этого чувства быстро доходят до пределов отчаяния, где, лишенные всякой надежды, ожидают конца.
Изредка в этой ситуации возникают более масштабные заблуждения. Во время молитвы Коль Нидрей двое молодых русских бросили камень в окно московской синагоги. Возможно, они были пьяны, или просто хулиганами. В любом случае инцидент был быстро исчерпан, и никого особо не взволновал. Однако на следующее утро в другой синагоге уже ходили слухи о серьезной драке между евреями и нападавшими.
Похожая история имела место в Тбилиси, где как-то ночью в переулке ко мне подошли два еврея, попросившие поведать всем об «ужасных вещах», имевших место за несколько дней до этого в Кутаиси, городе в четырехстах километрах от столице Грузии. Что там случилось? Волнения, кровопролитие. Несколько евреев были ранены, несколько арестованы. Я проверил – все оказалось неправдой. Никого не ранили, никого не арестовали.
Зачем меня дезинформировали? Один из тех, кого я спрашивал, предположил, что эти двое были осведомителями, которые ввели меня в заблуждение, чтобы я распространил неверную информацию. Однако другой сказал, что это были хорошие люди, руководствовавшиеся страхом, которые просто приукрасили своими собственными домыслами то, что слышали. Они действовали под влиянием той массовой паранойи, которая время от времени охватывает российскую еврейскую общину.
Московский раввин р. Иегуда-Лейб Левин (справа) с прихожанами
Моя первая встреча с этой общиной и пронизывающим ее страхом произошла в первый же день, когда я прилетел в Москву. Это был вечер Судного дня, я стоял в Большой московской синагоге и мне казалось, что я пришел помолиться в обществе марранов[4] – евреев, которые один раз в году решаются покинуть свои укрытия, чтобы прилюдно служить Творцу. Среди них я чувствовал себя чудаком, иноплеменником.
И вместе с тем внешне я словно находился в обычной довоенной синагоге Европы или Америки, а вовсе не в сердце российской столицы, в десяти минутах от золотых куполов Кремля и печально знаменитой «Лубянки», штаб-квартиры тайной полиции, чьи мрачные камеры стали последним пристанищем многих из тех, кого пытали и приговорили к смерти только за то, что они евреи.
Святилище было ярко освящено и переполнено. Многие надели белые праздничные одежды и молитвенные накидки. Как обычно, пожилых было больше, однако было и немало людей средних лет, и даже несколько евреев в возрасте от двадцати до тридцати. Представители трех поколений пришли вместе: дед, еще помнящий царские указы, сын, который провел несколько лет в сибирских трудовых лагерях, и внук… а он-то что здесь делает? Видимо, одноклассник или коллега по работе напомнил ему, что он тоже еврей. Пусть он здесь в силу необходимости, а не собственного выбора.
Р. Йегуда Левин
Старики молились от всего сердца, представители молодого поколения сидели и молча слушали. Они казались задумчивыми, обеспокоенными, смущенными. Но это было естественно – ведь это был Йом Кипур, Судный день: кому жить, а кому умереть, кто будет изгнан, а кто обретет свободу, кто будет страдать, а кто обретет покой[5]. Подобные мысли возникают в эту ночь у любого еврея, где бы он ни был. Однако здесь они были особенно актуальны.
Богослужение шло обычным порядком, кантор и хор исполняли традиционные напевы. Из ковчега извлекли свитки Торы, и пoка процессия двигалась вокруг амвона, престарелый раввин Йегуда-Лейб Левин[6] дрожащим голосом возгласил: «Свет посеян для праведников, и для прямодушных радость». Какой свет? Какая радость? Кантор запел Коль Нидрей. Тут и там можно было услышать тихие вздохи. Какая-то женщина всхлипывала. Когда прозвучало заключительное благословение «Благословен Ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до сего дня», по залу прокатилась дрожь. Еще один год.
Внезапно я почувствовал, что на меня пристально смотрит мой сосед. Его глаза смотрели весьма недружелюбно, оскорбительно. Они изучали меня, стараясь сорвать с моего лица воображаемую маску, и выяснить подлинную причину моего пребывания среди них. Я услышал шепот: «Кто-нибудь его знает?» Никто. «Кто-нибудь знает, откуда он и что он здесь делает?» Никто не знал. Никто и не мог этого знать. Я еще ни с кем не говорил, я только что прилетел, и приехал сюда практически сразу из аэропорта. Всего семь часов назад я был в Париже.
Хотя их подозрения меня не удивили, они доставили мне определенные неприятности. Я пытался завязать разговор – они делали вид, что не слышат. То, что я сознательно решил сесть в основном зале синагоги, а не в специальной секции для гостей, лишь увеличило их недоверие. Когда я начинал говорить, они делали вид, что не понимают идиш. Несмотря на многолюдность и то, что мы сидели рядом, между нами словно пролегло огромное расстояние.
Только когда я начал молиться вслух, разделяющий нас барьер рухнул. Князь молитвы пришел ко мне на помощь. Они внимательно слушали, подходили ближе; их сердца раскрылись. Они столпились вокруг меня. Давка была невыносимой, но мне это нравилось. На меня обрушился град вопросов. Остались ли в Америке евреи? А в Западной Европе? У них все благополучно? Какие новости из Израиля? Сможет он дать отпор всем врагам? Все, что они хотели, это услышать, что я скажу. На мои вопросы они отвечать отказывались: «Лучше не спрашивать», – сказал один из них. Другой сказал то же самое. «Мы не сможем сказать, мы не сможем ответить». Почему? «Потому. Это слишком опасно». Они смотрели на меня затравленными глазами. Я не мог быть одним из них, поскольку никогда не был в их шкуре. Нас разделяла стена страха.
«Ничего не говори,» – сказал мне один из них, – «Просто молись. Этого достаточно. Как приятно узнать, что в мире еще остались молодые евреи, которые умеют молиться». Я чувствовал себя чужаком, грешником…
Я позабыл о раввине, канторе и хоре. В моих мыслях не было даже Бога. Я закрыл глаза и возвысил свой голос в молитве. Никогда в жизни я не молился с таким искренним чувством.
_________
(Продолжение следует)
Перевод Евгения Левина.