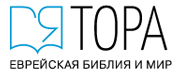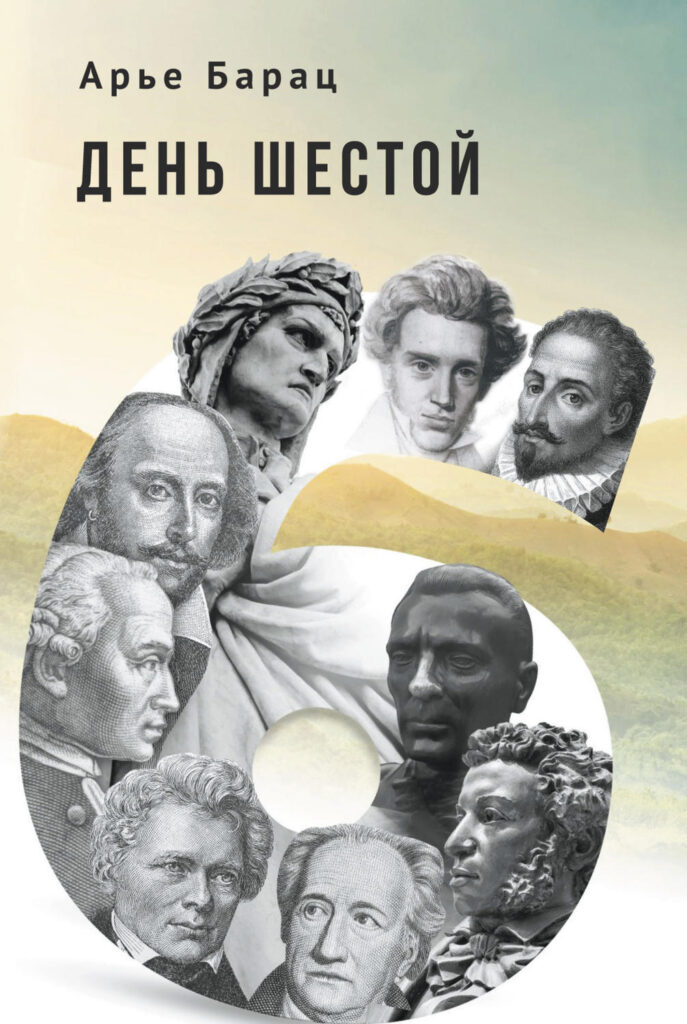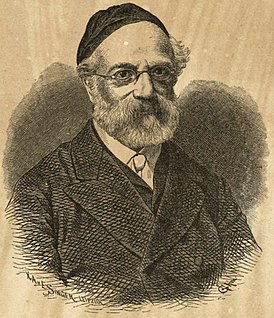День шестой
В 2019 году издательство “Алетейя” выпустило трилогию израильского религиозного мыслителя и публициста Арье Бараца “День шестой”. Предлагаем читателям отрывок из этой необычной книги.
«День Восьмой»… Так Торнтон Уайдлер назвал один из своих романов. «Человек не конец пути, а начало, – пишет автор. – Мы стоим сейчас в начале второй недели творения. Мы дети Восьмого Дня».
В расчет этот вкралась досадная ошибка. В действительности мы все еще находимся на исходе Дня Седьмого.
В конце каждого Дня Творения сообщается о его завершении. «И был вечер, и было утро: День Шестой». Далее же мы читаем: «И закончил Бог к Седьмому Дню работу Свою, которую Он делал, и отдыхал в День Седьмой от всей работы Своей».
Итак, про Седьмой День не сказано, что он завершен. Бог отдыхает и поныне, т. е. отдыхает в течение всей человеческой истории, начавшейся в момент завершения Творения и изгнания Адама из рая, датируемого Талмудом 3761 годом до н.э. Однако Талмуд датирует не только начало, но и конец истории, ограничивая ее продолжительность шестью тысячелетиями («шесть тысяч лет просуществует мир» – Авода зара 9а).
Откуда берется этот срок?
Пока Бог отдыхает, человек трудится подобно тому, как трудился Создатель, т.е. как Создатель творил мир в течение Шести Дней, так и человечество отрабатывает свои «шесть рабочих дней». Человеческая история представляет собой таким образом «рабочую неделю», каждый день которой занимает тысячу лет, как сказано: «тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний».
Итак, согласно преданию Израиля, человеческой истории исходно отмерено шесть «тысячелетних дней», которые истекут в 2240 году по христианскому летоисчислению. Только тогда наступит седьмое тысячелетие, которое явится «субботой человечества» и одновременно Восьмым Днем Создателя.
До той же поры мы остаемся детьми Седьмого Божественного дня, и – шестого тысячелетия человеческой истории, «Шестого дня человечества», который примечателен тем, что он соответствует тому Божественному дню, в который творился человек.
Виленский Гаон учил, что события «сотворения мира проявляются в тысячелетиях, каждый в свой день и в свой час».
Шестой «тысячелетний день», начавшийся в 1240 году н.э., явился, поэтому днем становления человека, днем его творческого взлета.
Наше время – время завершения Шестого рабочего «тысячелетнего дня» человечества и одновременно исхода Седьмого Дня Божественного Отдыха – время небывалое, сумеречное, сверхновое, в потоке которого могущественный Дух, имя которого нам еще предстоит уточнить, открывается в трех последних главах своей Великой Поэмы, в трех избранных годах человеческой истории – 1836, 1988 и 2140.
Если эти годы представить как часы тысячелетнего дня, (дня, начинающегося в полночь), то 1836 год будет соответствовать примерно двум часам пополудни, 1988 – шести часам вечера, а 2140 год будет приближаться к десяти часам вечера. До 12-ти часов ночи, когда шестой тысячелетний день закончится, нам, находящимся в 2018 году, осталось жить немногим более пяти часов.
6 (18) марта (1 нисана 5596)
Ольденбург
Наступила суббота, и вместе с ней первый день весеннего месяца Нисан. Вечерняя молитва завершилась, и молодой ольденбургский раввин Шимшон Гирш неспешно поднялся на возвышение посреди синагоги.
Все ждали его обычного в этот час поучения. Но час был необычен, и рабби Гирш чувствовал это.
Много лет в глубоком одиночестве продумывал он ответ, который его религия могла бы дать вызову, брошенному Просвещением. И вот после долгих трудов и перипетий его пробный камень, его «Письма с севера» должны были, наконец, увидеть свет! Он возлагал на ближайший год особые надежды.
– Только что вместе с субботой наступил месяц Нисан, – произнес рабби Гирш, – первый месяц еврейского календаря. Не странно ли это? Не странно ли, что Новый год мы отпраздновали полгода назад, а первый месяц года отмечаем только сегодня? Каким образом счет месяцев и счет лет ведется от разных дат? Ответ прост. На самом деле существует два новых года: один общечеловеческий, начинающийся осенью, а другой еврейский, начинающийся весной.
Общечеловеческая хронология ведется от сотворения мира – от 1 тишрея, хронология Израиля – от исхода из египетского рабства, от 1 нисана. Поэтому-то годы правления израильских царей считались по весне. Когда мы читаем в Писании: «В шестой год царствования Хизкияху», то уточняем срок не по дате помазания, а по 1-му нисана.
Сегодня наступил такой новый год царей. И хотя нет царства, к хронологии которого его можно было бы приложить, сам он об этом царстве напоминает.
Философы утверждают, что саморазвитие абсолютного разума завершилось. Вся Германия со дня на день ждет явления Мирового духа. Сынам Эсава чудится, что «иссякла чреда новых духовных формаций», что История подводит итоги, а заразившиеся их лихорадкой сыны Иакова повсеместно оставляют веру отцов…
Но на самом деле до наступления седьмого, субботнего тысячелетия человеческой Истории еще пройдут века. И уж, конечно, это произойдет не раньше, чем народ Израиля вновь соберется на своей земле. И в день весеннего новолуния мы призваны предвкушать избавление, призваны надеяться, что царство Израиля восстановится в ближайшее время, в наши дни…
Петербург
В тот же вечер в дом Пушкина у Гагаринской пристани, подобно птице, имя которой он носил, шумно влетел сияющий Гоголь.
– Представьте, Александр Сергеевич! Я получил разрешение на постановку «Ревизора»!
Пушкин вскочил навстречу и порывисто обнял гостя.
– Браво! Поздравляю!
– Не знаю, открывал ли Ольдекоп вообще мою пьесу, – заливался Гоголь, схватив Пушкина за воротник халата, – но он написал, что она «не заключает в себе ничего предосудительного», представьте себе!
Пушкин представил и усмехнулся.
– Я к вам как раз из театра. Отдал к постановке. Через месяц премьера!
Пушкин осторожно высвободился и похлопал взбудораженного гостя по плечу.
– А вот в это я уже поверить не могу…
– Ну, через два – точно. Эта пьеса преобразит Россию!
36-летний Пушкин не стал разубеждать 27-летнего Гоголя. В свои 27 лет Пушкин написал «Бориса Годунова», но вовсе не ожидал, что спасет этим Россию.
– Ну а как «Современник»? – поинтересовался Гоголь, усевшись на плетеный стул. – Что скажете по поводу моих последних материалов?
– Есть кое-какие новости… «Утро чиновника» я только третьего дня в цензуру отправил; из «Коляски» Крылов вымарал четыре места… А вот из статьи вашей «О движении журнальной литературы» я бы и сам кое-что выкинул…
В этой статье Гоголь прошелся по всем периодическим литературным изданиям, каждому вынеся суровое порицание. Главным нападкам подверглась коммерческая «Библиотека для чтения», но досталось и «Северной пчеле», названной писательской мусорной корзиной, и «Сыну отечества». Даже «Московский наблюдатель» получил выговор за отсутствие в нем «сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала».
– Что там не так?!
– Очень уж задиристо, обидятся люди… Ну, что вы, например, про Погодина пишите?! Я не могу с этим согласиться… Но в целом хорошо, тема развивается. Я бы вообще вам посоветовал написать историю русской критики – начало тут явно вами положено, но слишком уж пылко… Взгляните, тут помечены места, которые я бы не хотел видеть в печати…
Пушкин намеревался было дать некоторые разъяснения, но вдруг передумал; не захотел в такой радостный для Гоголя день затевать спор. Он приказал принести пироги, достал из шкафа бутылку рома, выставил рюмки, и подмигнул:
– Это тот самый ром, по «сто рублей за бутылку», который ваш Хлестаков будто бы хлещет. Признайтесь, что с меня его писали! И про картишки «по два дня кряду»?
Гоголь хлопнул себя по коленям и захохотал. Наблюдение Пушкина было верным и в комментариях не нуждалось.
* * *
В тот же вечер двадцатичетырехлетний поручик Жорж Дантес, красивый голубоглазый блондин, сидел в своей комнате в казарме кавалергардского полка. Прошло полгода с тех пор, как прекраснейшая женщина Петербурга – Наталия Николаевна Пушкина – сразила его, и вот уже три недели как он открыл перед ней свое сердце.
Чувство это было столь же внезапным и неожиданным, сколь сильным и сладостным, но сегодня пришло время его преодолеть. Того требовал высокий покровитель Дантеса – голландский посол барон Луи Геккерн. Он находился в отлучке, и в своем последнем письме объяснил Жоржу, что прелести госпожи Пушкиной уже давно были заслуженно оценены также и императором Николаем, и что если он – император – не добился ее благосклонности, то успехи Дантеса в этом направлении могут слишком дорого ему обойтись. Если Дантес дорожит так блестяще начатой карьерой, то ему следует полностью прекратить свои воздыхания. Между строк в послании барона сквозили и иные чувства, но Дантесу хватило одних этих явных аргументов.
Он осознал, что его друг и покровитель в сущности прав, и уселся писать ответ:
“Петербург, 6 марта 1836 г.
Мой дорогой друг, я все медлил с ответом, ведь мне было необходимо читать и перечитывать твое письмо… Господь мне свидетель, что уже при получении его я принял решение пожертвовать этой женщиной ради тебя. Решение мое было великим, но и письмо твое было столь добрым, в нем было столько правды и столь нежная дружба, что я ни мгновения не колебался… Я победил себя, и от безудержной страсти, что пожирала меня 6 месяцев, о которой я говорил во всех письмах к тебе, во мне осталось лишь преклонение да спокойное восхищение созданьем, заставившим мое сердце биться столь сильно… Она была много сильней меня, больше 20 раз просила она пожалеть ее и детей, ее будущность и была столь прекрасна в эти минуты, что, желай она, чтобы от нее отказались, она повела бы себя по-иному, ведь я уже говорил, что она столь прекрасна, что можно принять ее за ангела, сошедшего с небес. Итак, она осталась чиста; перед целым светом она может не опускать головы. Нет другой женщины, которая повела бы себя так же… Ну, я уже сказал, все позади, так что надеюсь, по приезде ты найдешь меня совершенно выздоровевшим…”
18 (30) марта (католическая страстная неделя)
Париж
В 11-ом часу Александр Иванович Тургенев вошел в Собор Парижской Богоматери. Начиналась третья утренняя месса.
Первую часть дня Тургенев обычно проводил в архивах и библиотеках, а по вечерам посещал литературные салоны и театры, но сейчас у католиков шла страстная неделя, и несколько утренних часов у него уходило на молитвы и слушание проповедей.
Александр Иванович жил за границей, в России бывал наездами. Когда-то он пробовал служить на благо отечества, старался влиять практически – возглавлял департамент духовных дел иностранных исповеданий, но в 1824 году его отстранили от должности за либеральные взгляды, и он уехал за границу.
Во время событий на Сенатской площади Александр Иванович с братом Николаем находились в Париже, и назад как-то не потянуло. Особенно, конечно, Николая, которого заочно приговорили к повешению, но и Александр особых милостей к своей персоне не ожидал, и первый раз навестил Россию только через пять лет. Собрался он посетить родину также и в этом году.
После утренней мессы Александр Иванович перекусил в гостинице и направился в Сорбонну. Любопытных для него лекций здесь сегодня не объявлялось, но в библиотеке всегда имелось, в чем порыться.
Начать, однако, свой трудовой день Александр Иванович решил с утренних газет, и сразу же натолкнулся на весьма огорчившее его сообщение: готовившийся к изданию пушкинский «Современник», в который он – Тургенев – уже направил свои материалы, оказывается, задумывался не как ежемесячный журнал, а как квартальное издание! Писательским дарованием Александр Иванович не блистал, но журналистскими качествами обладал и рассчитывал поставлять Пушкину животрепещущие новинки из области литературы и всеобщей политики. Но какой интерес могут представлять из себя его послания чрез три или четыре месяца? Для Review нужны статьи, а не новости с пылу-жару… Как Пушкин мог не разъяснить ему такой важной подробности?!
Пушкина Александр Иванович знал еще ребенком. В каком-то отношении мог назвать себя его путеводной звездой. Ведь именно при его участии двенадцатилетний Пушкин был определен в Царскосельский лицей, и именно он способствовал сближению поэта с Карамзиным и Жуковским, которые столь замечательно повлияли на становление молодого таланта.
Порывшись около часа на полках, и убедившись, что сегодня ничем серьезным он заниматься не в состоянии, Тургенев вернулся в Собор Парижской Богоматери, а оттуда отправился прямиком домой, где предался полуденному сну.
Когда Тургенев пробудился, уже вечерело. Он присел за стол и тотчас вспомнил о «Современнике».
Даже странно, что у него с Пушкиным приключилось такое взаимонепонимание, ведь их связь была того рода, которую Чаадаев назвал «связью всех единомысленных людей».
Тургенев открыл ящик стола, достал последнее чаадаевское письмо и перечитал полюбившиеся ему строки.
«Значит, правда, что существует только одна мысль от края до края вселенной; значит, действительно, есть вселенский дух, парящий над миром, тот Welt Geist, о котором говорил мне Шеллинг и перед которым он так величественно склонялся; можно, значит, подать руку другому на огромном расстоянии; для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь единомысленных людей, преследующих одну и ту же цель всеми силами своей души и своего разума, идет, следовательно, в ногу и объемлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте давать мне чувствовать движение мира: ваши труды, я надеюсь, не пропадут даром».
– Как замечательно сказано! – подумалось Тургеневу. – Как замечательно поддержал меня мой добрый друг! Мы единомысленные люди, разбросаны по всему миру, разбросаны даже по всем векам, но благодаря Мировому Духу чувствуем локоть друг друга… Я один в этой комнате, но в то же время теснейшим образом связан и с Чаадаевым, и с Шеллингом, и уж, конечно же, с Пушкиным, хоть даже и из газет, а не от него самого узнаю концепцию его журнала… А название подходящее – «Современник». Удивительно жить в пору раскрытия Мирового Духа, превращающего в современников все бывшие и будущие поколения!
21 марта (2 апреля) (Пасхальная ночь западных христиан)
Мюнхен
Пасхальный вечер тайный советник профессор мюнхенского университета Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг провел в кирхе.
Домой он возвращался понурый, одиноко бредя за своей преданной Паулиной, увлеченно беседовавшей с соседкой. Женщины шли рядом, и Шеллинг, невольно отстав, предался грустным мыслям.
Эта Пасха, к которой он готовился как к никакой другой, Пасха, которую еще год, да что там год – еще три месяца назад! – воспринимал как знамение возрождения его миссии в качестве Первого Мыслителя Европы, эта Пасха превратилась в знамение его провала!
Восхождение Шеллинга было феерическим. В 1797 году в 22 года он написал труд «Идеи к философии природы», издание которого, при содействии Гете, привело Шеллинга на кафедру философии Йенского университета в качестве профессора. Здесь в 1800 году он издал книгу «Система трансцедентального идеализма» и приступил к разработке «философии тождества», согласно которой в первооснове бытия лежит тождество субъективного и объективного.
Идея была навеяна диалогом Джордано Бруно «О причине, начале и едином», и впервые раскрыта в 1802 году в сочинении «Бруно, или о Божественном и естественном начале вещей».
Но наиболее полно Шеллинг изложил эту философию в 1804 году в сочинении «Система моей философии». Тогда же он создал близкие по духу «Философию религии» и «Философию искусства».
Но философия тождества оказалась внутренне противоречивой, она не поддавалась, точнее она не подлежала разработке. Коль скоро в основу бытия положена интуиция, а не разум, то разуму выпадает второстепенная роль. Кажущаяся успешной на уровне тезисов, «философия тождества» могла получить максимальное свое раскрытие лишь в литературной области. Область эта некогда манила Шеллинга: в юности он писал стихи, даже поэмы, позже писал и романы, однако окончательно определился он все же как философ, а не литератор, и теперь, приближаясь к старости, пожинал плоды.
Сочинения Шеллинга – сбившиеся с прямого рационального пути и уклонившиеся в сторону религии и визионерства – стали вызывать насмешки философской публики.
Шеллинг как мог отбивался от нападок, но вдруг летом 1807 года, как вор из-за угла, выскочил Гегель со своей «Феноменологией духа». Всегда он был преданным учеником Шеллинга, всегда смотрел на него снизу вверх… но тут вдруг выступил с жесткой критикой! Впрочем, не в критике было даже дело, а в том, что критикуя, Гегель незаметно для публики выкрал у Шеллинга все его основные прозрения!
Поучая Шеллинга, как тому следует обходиться с выдвинутыми им идеями, Гегель бесцеремонно ввел эти идеи в свой оборот! В течение последующих лет этот мошенник показал себя в такой же степени неспособным завершить эти идеи, в какой неспособен был их изобрести. Но все, раскрыв рот, почему-то восторженно ему внимали!
Завладев его – Шеллинга – главной концепцией, концепцией истории как самосознания Мирового духа, Гегель завел эту историю в философский тупик, представляя ее чисто спекулятивной. Гегель не понимал, что из мысли невозможно вывести бытие, которое бы отличалось от бытия мысли! Гегель, как фокусник, который извлекает из шляпы заранее подброшенные в нее предметы, производил из собственной головы не имеющие никакого отношения к действительности «категории»…, а легковерная публика восторженно аплодировала!
Так вор и шарлатан Гегель стал первым умом Германии, а он, Шеллинг, истинный пророк Мирового Духа, оказался забыт и осмеян! Ситуация не изменилась и после смерти неблагодарного ученика.
Как бы то ни было, но глумление филистеров над трудами Шеллинга привело к тому, что он совершенно перестал публиковаться. Он писал, писал много, но никак не мог доработать текст до такого состояния, чтобы лишить своих озлобившихся недругов малейшей возможности над ним издеваться.
Результат оказался плачевный: с тех пор, как Шеллинг объявил о скорой публикации «Мировых эпох», написанных в 1811-1815 годах, прошло двадцать лет, а его последнее печатное произведение – памфлет против Якоби – появилось почти четверть века назад – в 1812 году!
Шеллинг по-прежнему хранил репутацию блестящего лектора. Чтобы услышать его суждение о «Философии мифологии» и «Философии откровения», люди съезжались со всей Европы, и на его выступления невозможно было пробиться. Но, во-первых, лекции – это особы предварительные, это эмбрионы, ожидающие своего рождения в виде книг, а во-вторых, лекции всеми старательно конспектируются, неизбежно обрастая при этом домыслами и неточностями. Были даже случаи, когда такие конспекты публиковались без его авторского ведома!
Измученный и издерганный Шеллинг два года назад, наконец, решился: он подписал контракт с издателем господином Георгом Коттом. Предполагалось опубликовать не просто отдельные работы, а полное собрание его сочинений: «Положительная философия» – один или два тома, «Философия мифологии» — шесть томов, и «Философия откровения» — два тома.
Появление в свет этих трудов должно было ознаменовать полноценное возвращение Шеллинга на философскую арену, должно было вернуть ему заслуженное положение, положение первого мыслителя Европы: не наместника Мирового Духа на земле, каковым мнил себя Гегель, а лишь его доверенного лица.
В этом опять же заключалось коренное расхождение Шеллинга с Гегелем. Мировой Дух пишет великую поэму, а не философский трактат, якобы знаменующий собой завершение истории. Если уж Мировой Дух действительно произнес свое последнее слово, то он произнес его в «Фаусте», а не в «Феноменологии духа»: «Теория, мой друг, мертва, но зеленеет жизни древо».
Пока Гете продолжал писать своего «Фауста», Шеллинг, собственно говоря, так и верил, то есть верил, что это произведение явится той, как он писал, «лежащей в неопределенной дали точкой, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму». Новый мир, начавший свое построение с «Божественной комедии», по всей видимости, завершает свое формирование в «Фаусте».
Однако, когда после смерти Гете была, наконец, издана пестрящая загадочными символами вторая часть «Фауста», пришли сомнения. Шеллинг почувствовал, что доктор Фауст – не последний штрих в соборном образе человека Нового мира, каким он останется на все времена. Что-то этому образу все же не доставало.
Сомнения эти навалились на Шеллинга как раз в ту пору, когда он решился издать собрание своих сочинений. По этому случаю он даже загадал, что события эти – издание его трудов и завершение мировой поэмы – совпадут; что в самое скорое время произойдет та литературная вспышка, которая осветит всю историческую композицию, и в которой Мировой Дух закончит задуманную им «великую поэму».
Последним сроком подачи рукописей издателю было 3 апреля 1836 года, то есть та самая Пасха, которую он сегодня встретил.
Два эти года Шеллинг напряженно работал, но рукописей г-ну Котту к сроку так и не представил. Не решился. Можно было, конечно, продолжать обманывать себя, говорить, что «не успел», но характер этого «не успел» был ему самому – особенно сегодня – слишком ясен: он не в состоянии довести свои тексты до должного блеска, он страшится глумливой критики. Ему шестьдесят один год, смерть, возможно, уже не за горами, а он так и не решился! Что его ждет?
Сегодня во время пасхальной службы он стал молиться, стал просить, чтобы Дух подсказал ему решение, дал бы какое-то знамение.
Судорожные метания, наивный порыв. Откуда? Какое знамение?
Подавленный этими нелегкими мыслями, Шеллинг брел в одиночку, основательно отстав от своей нежной любимой Паулины.
Приближаясь к особняку банкира Симона Селигмана, Шеллинг еще издали увидел освещенную лунным светом внушительную группу людей, столпившуюся у входа в дом.
Большинство из них выглядели обычно, но трое были одеты в черные лапсердаки, выдающие в них традиционных евреев. Удивляло, что несмотря на поздний час, в этой толпе было немало детей.
Поравнявшись с домом банкира, Шеллинг увидел среди этой толпы своего студента Макса Лилиенталя, писавшего работу по Филону Александрийскому. Они раскланялись.
Шеллингу импонировали иудеи. Он не понимал ни Канта, ни Фихте, ни тем более Гегеля, глубоко презиравших еврейскую религию. Племенная самовлюбленность Израиля, равно как и глупое иудейское обрядоверие не казались ему – Шеллингу чем-то исключительным. А разве христиане вообще, и даже лютеране в частности, не помешаны на собственной правоте? Разве они не имеют своих обрядов? Все христианские направления привыкли выезжать на ограниченности иудаизма, не замечая, что в них самих не больше смысла, чем в нем. Все религии в равной мере держатся на множестве нелепых предрассудков, но у евреев, по крайней мере, есть впечатляющая история, есть даровитость, есть, наконец, связь с Писанием, хоть как-то оправдывающая их пристрастие. У католиков, протестантов, мусульман нет и того. В грядущую церковь войдут все без разбора, основываясь на чистоте помыслов, на достоинстве человеческой личности. В эту действительно свободную от обрядов церковь войдут и христиане, и евреи и даже язычники. Но пока этой вселенской церкви не возникло, евреи менее остальных традиционных верующих заслуживают насмешек.
– Что это вы все тут делаете в столь поздний час, господин Лилиенталь? – поинтересовался Шеллинг.
– У нас тоже Пасха, герр профессор. Видите, полная луна? Это полнолуние месяца Нисана.
Шеллинг взглянул на огромную серебристую луну, нависшую над домом банкира.
– Сегодня календари печатают на бумаге, – продолжал Макс, – и все мы забыли про этот небесный нерукотворный календарь, забыли слова псалмопевца: «Он сотворил луну для определения времен». В небе подвешен календарь, герр профессор, при наметанном глазе ошибиться можно только на день.
– Луна – естественный календарь? Как это вы хорошо сформулировали, господин Лилиенталь… Так у вас, говорите, тоже Пасха? Выходит сегодня все повторяется…
– Я не понял. Что повторяется?
– Я имею в виду, что Иисус Христос был распят как раз накануне еврейской Пасхи, перед наступлением Субботы. В ту ночь, значит, в небе светила такая же яркая луна. Она кажется сегодня необычной яркой, не правда ли?
Книгу Арье Бараца “День шестой” можно приобрести в интернет-магазинах Озон и ЛитРес.