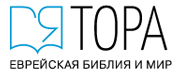День поминовения
Любовь отзывчива и восприимчива. Любовь заразительна. Вирус любви изначально положительно эмоционален. Непоколебимая уверенность в этом сохранилась во мне благодаря той любви, которую я видел в глазах своей бабушки. Она любила меня так, как может любить только бабушка своего единственного внука. И моя любовь к ней, тогда неосознанная, необъяснимая и непонятная, была взаимной. Взаимной только потому, что я видел в ее глазах безграничную любовь ко мне, ее внуку.
Моя бабушка, горская еврейка в десятом или двадцатом поколении, была отдана в замужество в тринадцатилетнем возрасте. В четырнадцать она стала матерью, подарив миру сына, которого назвали Рувим. Затем она родила Манашира, потом мою тетю Мозолут и, наконец, моего отца, которого назвали Адынья. Так сложилась жизнь, что именно первенец Рувим стал навсегда болью ее души и сердца, ее невыплаканным страданием.
Весной 1941 года он был лейтенантом НКВД. Красивый молодой человек, в июле 1941-го он ушел на фронт добровольцем. В ноябре бабушку известили о том, что лейтенант Абрамов Рувим Мухоилович пропал без вести. В ту ночь она не сомкнула глаз, а утром соседка по двору заметила, что 33-летняя Овгоил сидит за низким столиком, обхватив голову руками. Теперь уже седую голову. Ее темные густые вьющиеся волосы стали белыми за одну осеннюю ночь. Такую я ее и помню — седовласую, красивую, с тонкими чертами лица и очень выразительными глазами. Глазами, в которых была любовь.
Она считала, что я, единственный ее внук, похож на Рувима. Значение этих слов я понимал, но не осознавал глубины их смысла. Для нее моя схожесть с родным дядей была той нитью, которая связывала ее жизнь с прошлым и настоящим. Это была нить протяженностью в несколько десятков лет. А для меня, совсем еще мальчишки, тогда не было прошлого. У меня все было в настоящем: была она, мама, отец, дед, который не расставался с книжечкой Торы и каждое утро ходил на соседнюю улицу Димитрова, где стояла синагога горских евреев, был наш двор с виноградниками, были соседи — азербайджанцы, армяне, русские, — и были мои друзья.
До сих пор я храню одну-единственную фотографию, на которой мой дядя Рувим в военной форме стоит рядом с девушкой. Фотография пожелтевшая, изрядно осыпавшаяся, с короткой надписью: «Май 1941 года». Позднее я часто смотрел на эту карточку, всматривался в черты лица дяди и, признаюсь, никакой схожести с собой не находил. Но любовь, я уверен, сильнее наших представлений.
Я редко надевал кипу. Первый раз надел ее в день своего тринадцатилетия, второй — когда не стало бабушки; мне тогда было девятнадцать. Девятнадцать было и Рувиму. Его портрет, грубовато дорисованный фотохудожником, висел на сырой стене нашей крохотной комнаты. Каждый год в один из дней ноября бабушка снимала его со стены, проводила по лицу своего первенца белоснежным платком и что-то очень тихо шептала. Я почти никогда не мог расслышать слов, но понимал, что сегодня день поминания ее сына, моего дяди, пропавшего на фронте без вести.
Для бабушки утро в тот день начиналось раньше. Она набирала в плоский таз песку, ставила его на пол, устанавливала там свечу, зажигала ее и садилась рядом с портретом сына. Она произносила его имя, обращалась к нему, печально и горестно спрашивая, где же покоится его тело, тело ее любимого и неповторимого старшего сына, и почему же он оставил ее, одинокую и несчастную, горевать в этом старом дворике, и почему он никак не позовет ее в ту даль, не заберет и не успокоит наконец ее душу… Слезы медленно катились по ее щекам. Вместе с ней плакала и мама; дед, зажав в руке Тору, медленно покидал двор; отец сидел на покосившемся стуле и, опустив голову, тихо всхлипывал.
Во двор одна за одной входили женщины. Они несли с собой портреты своих близких, садились рядом с бабушкой, ставили в таз с песком принесенные свечи и, подхватив бабушкин плач, вспоминали родных. К ним присоединялись соседки, и их голоса становились слышны далеко за пределами нашего двора. Голоса плачущих женщин и десятки зажженных свеч — моя память хранит это и сегодня.
Так было каждый год, и никто тогда не мог мне объяснить, был ли это обычай только среди горских евреев. Позднее, уже в Израиле, когда я поехал в Ор-Акиву встретиться с сестрами моей мамы, одна из них, Турюндж, — веселая, боевая, легкая на подъем и острая на язык — обняла меня, расцеловала и громко, нараспев произнесла имя моей мамы. «Сын Аснат приехал», — сказала она, точнее, почти пропела, и глаза ее наполнились слезами. Во дворе за большим накрытым столом сидели женщины. Одна из них, видимо, профессиональная плакальщица, сразу подхватила слова моей тети, и я невольно вспомнил один из тех ноябрьских дней моей юности.
Бабушки не стало летом, в июле. Она задыхалась в сырых комнатах, поэтому в нашу бакинскую жару спала во дворе на раскладушке, лежала на высоких подушках, защищенная густой листвой виноградника. Ее душила астма, душевная боль не давала покоя. В тот день я вернулся за полночь. Над нашим крыльцом горела лампочка, и во дворе было тихо. Я подошел к раскладушке, сел рядом, взял ее руку в свою. Она улыбнулась, погладила меня по щеке и сказала, что устала и что ей пора уходить. Я хотел что-то возразить, но она жестом остановила меня. Сказала, чтобы я помогал сестре, чтобы учился, оправдывал надежды, не давал в обиду мать и был внимателен к отцу. «И еще, — добавила она и вздохнула. — Найди, пожалуйста, могилу дяди, могилу Рувима. Ведь не бывает так, чтобы человек действительно пропал без вести. Война войной, а у человека должна быть могила. Найди и положи от меня камешек. Вот этот, — она вложила в мою ладонь маленький камешек и посмотрела мне в глаза. — У нас, у евреев, такой обычай». Она покинула этот мир так, как покидают его праведники, — во сне.
Уже позднее во мне утвердилась мысль, что есть все же над нами некое Высшее Существо, которое мы называем Богом или Всевышним. И Он, этот Бог, един для иудеев, мусульман, буддистов и даже для таких, как я, — атеистов. Потому я и хранил тот камешек и старый тфилин, что верил и надеялся.
Поиски могилы дяди Рувима я смог начать только через семь лет после смерти бабушки, когда стал студентом одного из московских вузов. Но это уже другая история…