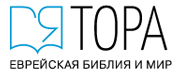Петь под чужую (и свою) дудку
Еврейская поэзия Средних веков относится к средневековой арабской поэзии примерно так же, как латинская поэзия к греческой. Еврейские поэты Испании адаптировали арабскую просодию, жанровую систему, эстетику и стиль и часто использовали мотивы, разработанные арабскими поэтами, в своих стихах.
К сожалению, с арабским у меня проблема — не освоил я его пока, иншаллах, выучу в будущем. Поэтому приходится читать арабские стихи в переводах, которые чаще всего не отражают стилистических особенностей оригинала.
Как-то раз я читал стихи Кайса ибн Альмулавваха, бедуинского поэта VII века из племени Бану Узра. Того самого, который влюбился в Лейлу, сошел с ума, стал жить в пустыне, удалился от людей, дружил с животными, воспевал в стихах свою возлюбленную и жаловался на муки любви. Его прозвали Маджнун, то есть «одержимый джинном, сумасшедший». Историю про Лейлу и Маджнуна знает весь Восток, от Марокко до Индии, и даже Запад.
Так вот, читал я его стихи в переводе Семена Липкина. И наткнулся на такое стихотворение:
заболел я любовью, — недуг излечить не легко.
злая доля близка, а свиданье с тобой — далеко.
о, разлука без встречи, о, боль, и желанье, и дрожь…
я к тебе не иду — и меня ты к себе не зовешь.
я — как птица: ребенок поймал меня, держит в руках,
он играет, не зная, что смертный томит меня страх.
забавляется птичкой дитя, не поняв ее мук,
и не может она из бесчувственных вырваться рук.
я, однако, не птица, дорогу на волю найду,
но куда я пойду, если сердце попало в беду?
Мне сразу вспомнилось стихотворение «Как тела темница…» Иегуды Галеви, еврейского поэта и философа XI-XII вв. В нем есть строка, которая в моем переводе звучит так:
И блага ли доля для честного, коли
Он — птица в неволе и в детской деснице.
Я нашел оригинал этого стихотворения и обратился к подруге-арабистке, которая подтвердила, что смысл переведен точно. Это ведь тот же самый мотив! Издатель антологии еврейской поэзии средних веков Хаим Ширман, комментируя эту строку, ссылается на фразу из Книги Иова 40:29 (в Синодальном переводе 40:24), в которой речь идет о Левиафане: «станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?». Здесь же совсем иной контекст, нет и намека на какое-то страдание «птички», никакого отождествления с ней. Я стал искать, пишет ли кто-нибудь из исследователей, что эта строка — перепев арабского мотива. И нашел с помощью профессора Шуламит Элицур статью профессора Иегуды Рацхаби, в которой указана связь между этой строкой и приведенным стихотворением VII в. Правда, профессор Рацхаби, по-видимому, подвергает сомнению авторство Кайса и говорит о нем как о стихотворении, автор которого неизвестен.
В другой раз я читал стихотворение великого поэта, мудреца и вольнодумца слепца Аль-Маарри (X-XI вв.). Вот оно в переводе Арсения Тарковского:
Приветствуй становище ради его обитателей,
Рыдай из-за девы, а камни оплакивать — кстати ли?
Красавицу Хинд испугала моя седина,
Она, убегая, сказала мне так: «Я — луна;
Уже на висках твоих утро забрезжило белое,
А белое утро луну прогоняет несмелую».
Но ты не луна, возвратись, а не то я умру,
Ты — солнце, а солнце восходит всегда поутру!
Мотив седого старика, ухаживающего за молодой красавицей и оттого несколько комичного, встречается еще в древнегреческой поэзии, у Анакреонта. Но это стихотворение Аль-Маарри совершенно точно послужило мотивом для произведения еврейского поэта Тодроса бен-Иегуды Галеви Абулафии (XIII в.). Вот мой перевод этого стихотворения:
Она сказала, убегая, увидав,
Что седины уже полна моя глава:
«Ночь влас твоих прогнал рассвет, а я — луна,
Спасаюсь бегством я, рассвет узрев едва!».
Я ей ответил: «Нет, но солнце ты и днем
Должна сиять ты по закону естества!».
Она сказала: «Коль останусь — что тебе
С того? Ведь мощь любви в тебе уже мертва».
«Как лев силен, что хочешь — все свершу я, лишь
На вид я стар», — такие я сказал слова.
Она ответила: «Ты — лев, а я — газель,
И трепещу я находиться подле льва!»
Мою догадку о том, что Тодрос Абулафия использует мотив из стихотворения Аль-Маарри, подтвердила доктор Хавива Ишай, специалист по творчеству Абулафии. Заодно она рассказала, что во второй части этого стихотворения, где речь идет о льве и газели, появляется «перевернутый» образ из эпиталамы, свадебного стихотворения Иегуды Галеви. Вот оно в моем переводе:
Вот балдахин и вот вино в сосуде.
Вот ложе — брачным ложем серны буди!
Внесла царица Савская подарки,
Загадку задает: внимайте, люди!
Известно ль вам, чтоб шли ко львам газели
Без страха? Кто слыхал об этом чуде?
И ей они ответили: ты, серна,
Ко льву взята в супруги, к Иегуде.
Газель, лань, серна — устойчивые метафоры красавицы в еврейской поэзии. В стихотворении Абулафии игра построена на том, что влюбленный похваляется своей львиной силой, но газель-красавица все же убегает, заявляя, что газели боятся львов. У Иегуды Галеви ситуация обратная: серна-невеста вовсе не боится идти ко льву-жениху с неслучайным именем Иегуда.
Как писал Иосиф Бродский в эссе «Скорбь и разум», «поэзия — дама с огромной родословной, и каждое слово в ней практически заковано в аллюзии и ассоциации» (пер. с английского Е. Касаткиной). У еврейских поэтов Средних веков были две роскошные родословные: великая арабская поэзия и собственная поэтическая и литературная традиция, одна из древнейших, уходящая своими корнями к самому благодатному источнику — к Библии.